Свобода: иллюзии и действительность
Человек ищет свободы. В нем есть огромный порыв к свободе, и он не только легко попадает в рабство, но он и любит рабство.
Н. А. Бердяев
Термин «свобода» довольно часто употребляется в повседневной жизни людей. Но каждый человек понимает его по-своему. Причем в основном свобода сводится к тому, чтобы делать все, что хочется.
Очень широко понятие свободы используется в современной политике. Все политические коллизии, любое вмешательство во внутренние дела другого государства происходят под лозунгом свободы и демократии. Все так называемые «бархатные» и «оранжевые» революции, не имеющие ничего общего с действительными революциями, совершались и совершаются под флагом свободы и защиты прав человека. Средства массовой информации сосредоточились на проблемах свободы.
Как уже отмечалось, каждый человек вкладывает в понятие свободы свой собственный смысл, имеющий чисто субъективный характер, поскольку речь идет, как правило, о личной свободе, якобы не предполагающей никаких ограничений. Такое представление о свободе вписывается в рамки обыденного сознания, но ни в коем случае не может претендовать на какую-либо научность.
Ретроспективный взгляд на историю философии показывает, что проблемы свободы находились в центре внимания многих корифеев мировой философии. Я сошлюсь только на некоторых. Т. Гоббс под свободой подразумевал «отсутствие внешних препятствий, которые нередко могут лишить человека части его власти делать то, что он хотел бы, но не могут мешать использовать оставленную человеку власть сообразно тому, что диктуется ему его суждением и разумом»[1]. Свободным является тот человек, который делает то, что ему необходимо в жизни, и при этом не встречает никаких препятствий.
Вольтер замечает, что вопрос о свободе довольно простой, но тем не менее люди постоянно спорят о нем, и в результате все запутались. Сам французский философ свободу определяет так: «Свобода – это исключительная возможность действовать»[2].
Соотечественник Вольтера П. А. Гольбах немало страниц посвятил проблемам свободы. «Любовь к свободе, – пишет французский мыслитель, – самая сильная из страстей человека; она вызвана его стремлением к самосохранению и беспрепятственному использованию личных способностей для того, чтобы сделать свою жизнь счастливой»
Но человек во всех случаях, в том числе в стремлении к свободе, должен руководствоваться только разумом, благодаря которому любовь к свободе приводит к добродетели. Кроме того, человек должен подчиняться установленным в обществе законам. Он должен понимать, что свобода имеет свои границы и их нельзя нарушать, чтобы не ущемлять свободу других. Поэтому «свобода – это возможность делать ради своего счастья все, что не вредит счастью других членов общества»
Чтобы сохранить свою свободу, люди должны быть разумными и добродетельными. Интересно, что Гольбах вовсе не считает, что только демократия предоставляет подлинную свободу людям. «При демократии народ, только по видимости осуществляющий суверенную власть, слишком часто является лишь рабом развращенных демагогов, которые льстят ему и разжигают его страсти; народ сам становится тираном»[7]
«При демократии народ, только по видимости осуществляющий суверенную власть, слишком часто является лишь рабом развращенных демагогов, которые льстят ему и разжигают его страсти; народ сам становится тираном»[7]
Как сохранить свободу? По глубокому убеждению П. А. Гольбаха, свободу можно сохранить лишь в том случае, если она базируется на началах разума и добродетели. Гольбах как идеолог Просвещения считает, что свободу можно сохранить, если люди поступают разумно, если в обществе руководствуются здоровыми нравами и если они знают о том, что происходит в обществе, а это предполагает наличие просвещения.
Вместе с тем, по мнению Гольбаха, одних законов и просвещения недостаточно для сохранения свободы. «Свобода может быть долговечной только при условии, что она подкреплена силой, способной заставить всех членов общества придерживаться справедливости и выполнять законы, устанавливающие определенные границы как для подданных, так и для тех, кто ими управляет»
Прежде всего следует подчеркнуть, что свобода есть социальное понятие. У животных нет никакой свободы. Они часть природы и не испытывают никакой нужды в свободе. «Животное, – писал К. Маркс, – непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же делает свою жизнедеятельность предметом своего сознания… Сознательная жизнедеятельность непосредственно отличает человека от животной жизнедеятельности»[9]. Человек осознает свободу, потому что его действия носят сознательный характер.
Свобода возникает в процессе совместной деятельности людей. Поэтому основа всякой свободы – свобода жизнедеятельности человека. С одной стороны, человек находит свою свободу только в обществе, а с другой – общество ему часто мешает делать то, что он хочет, и человеку кажется, что общество лишает его свободы. Но он либо не понимает, либо не хочет понять, что его личные интересы не всегда совпадают с интересами всего общества и приходится жертвовать личными интересами во имя сохранения общества. Такова диалектика жизни, и в данном случае мы встречаемся с одним из противоречий социума, которое решается путем компромисса: общество предоставляет индивиду определенную свободу, но и индивид в свою очередь сознательно ограничивает свои требования к обществу относительно свободы.
Но он либо не понимает, либо не хочет понять, что его личные интересы не всегда совпадают с интересами всего общества и приходится жертвовать личными интересами во имя сохранения общества. Такова диалектика жизни, и в данном случае мы встречаемся с одним из противоречий социума, которое решается путем компромисса: общество предоставляет индивиду определенную свободу, но и индивид в свою очередь сознательно ограничивает свои требования к обществу относительно свободы.
Наивно думать, что формирование человеческого общества начинается со свободы. Напротив, оно начинается с табу, с запрета, нарушение которого строго наказывается. Чтобы выжить в суровых условиях, первобытные люди соблюдали возникшие в ходе их практической жизни нормы и принципы поведения, регулировавшие их образ жизни. Каждый поступок члена рода строго регламентировался, и ни о какой свободе не могло быть и речи. Охотились, например, молодые люди, но мясо в первую очередь давали детям и старикам.
Нельзя свободу путать с волей. Воля связана с игнорированием общепринятых норм жизни. Воля – это субъективизм и волюнтаризм, отказ от учета объективных обстоятельств. Воля – это произвол и самодурство. В политике, например, волюнтаристские действия приводят к огромным отрицательным последствиям. Всем известны негативные последствия волюнтаристических решений Н. С. Хрущева.
Любящий волю человек не ограничивает себя никакими законами морального или юридического характера. Вольный человек в отличие от свободного человека уважает только самого себя, потому что он постоянно покушается на свободу других людей. Вольный человек – это эгоистичный человек, потому что он стремится лишь к удовлетворению личных интересов. Воля есть другое выражение произвола. Заметим, что анархизм как политическое течение, не признающее государственной власти, предпочитает волю свободе. Но не только анархисты не любят свободу. Даже некоторые сторонники демократии под свободой понимают не соблюдение законов, а волю, особенно когда это касается деятельности таких демократов.
В отличие от воли свобода предполагает действия человека в рамках юридических и моральных норм и законов. Человек должен понимать, что в обществе есть определенные законы, нормы, принципы, традиции, которые нужно соблюдать и в пределах которых можно и нужно свободно действовать. «Нравственный человек сознает содержание своей деятельности чем-то необходимым, имеющим силу в себе и для себя, и этим так мало наносится ущерб его свободе, что последняя даже, наоборот, лишь благодаря этому сознанию становится действительной и содержательной свободой…»
Нельзя абсолютизировать личную свободу человека, так как это нередко оборачивается трагедией для окружающих. Так, например, абсолютизация свободы приводит к росту насилия (убивают просто прохожих на улице, в учебных заведениях, своих коллег, причем убивают как взрослые, так и дети). Таким образом, свобода предполагает деятельность социальных групп, слоев, классов, индивидов при обязательном соблюдении общепринятых моральных и юридических норм и принципов.
Выше я привел некоторые дефиниции свободы, предложенные классиками философии. Они правомерны, но их следует рассматривать в контексте эпохи. На мой взгляд, свобода – это возможность проявлять свои физические и духовные потенции. Чем свободнее человек, тем у него больше возможностей создавать материальные и духовные ценности, обогащать свой духовный мир. Иными словами, развивать в себе все человеческое. А все это главным образом зависит от общества, в котором живет человек.
Свобода есть процесс, а не застывшее состояние. Иначе говоря, по мере продвижения общества по восходящей линии человек становится все более и более свободным в экономическом, политическом, духовном и других аспектах. Процесс этот носит очень противоречивый и порой даже драматический характер, но тем не менее эмпирически можно показать, как на протяжении истории расширяются свободы человека. Человек первобытной эпохи, например, не был свободен ни в отношении своего рода, ни в отношении природы. Ему приходилось бороться со стихийными силами на каждом шагу, чтобы прокормиться. Не давали свободы родовые связи и отношения. Человек по отношению к ним проявлял рабскую покорность и не представлял свою жизнь за пределами рода или племени. Его поступки и поведение регулировались традициями и обычаями рода и племени. Возможность решать самому те или иные жизненные вопросы, в том числе личного характера (женитьба, например), либо вовсе отсутствовала, либо была крайне ограничена. «Племя, – пишет Ф. Энгельс, – оставалось для человека границей как по отношению к иноплеменнику, так и по отношению к самому себе: племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, которой отдельная личность оставалась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и поступках. Как ни импозантно выглядят в наших глазах люди этой эпохи, они неотличимы друг от друга, они не оторваны еще, по выражению Маркса, от пуповины первобытной общности»[11]. Всюду человека подстерегала опасность, физически он рано изнашивался и умирал в сравнительно молодом возрасте.
Человек первобытной эпохи, например, не был свободен ни в отношении своего рода, ни в отношении природы. Ему приходилось бороться со стихийными силами на каждом шагу, чтобы прокормиться. Не давали свободы родовые связи и отношения. Человек по отношению к ним проявлял рабскую покорность и не представлял свою жизнь за пределами рода или племени. Его поступки и поведение регулировались традициями и обычаями рода и племени. Возможность решать самому те или иные жизненные вопросы, в том числе личного характера (женитьба, например), либо вовсе отсутствовала, либо была крайне ограничена. «Племя, – пишет Ф. Энгельс, – оставалось для человека границей как по отношению к иноплеменнику, так и по отношению к самому себе: племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, которой отдельная личность оставалась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и поступках. Как ни импозантно выглядят в наших глазах люди этой эпохи, они неотличимы друг от друга, они не оторваны еще, по выражению Маркса, от пуповины первобытной общности»[11]. Всюду человека подстерегала опасность, физически он рано изнашивался и умирал в сравнительно молодом возрасте.
Иную картину мы наблюдаем в рабовладельческом обществе. Да, жизнь раба полностью зависела от его хозяина: он мог убить его или продать, обращался с ним как с вещью. Аристотель считал, что «невозможна дружба и с конем или быком или с рабом в качестве раба. Ведь [тут] ничего общего быть не может, потому что раб – одушевленное орудие, а орудие – неодушевленный раб, так что как с рабом дружба с ним невозможна, но как с человеком возможна»[12].
Но тем не менее раб обладал большей свободой, чем первобытный человек, потому что он освободился от «пуповины первобытной общности». Он уже отличает себя от других, может вести самостоятельный образ жизни. Кроме того, – и это очень важно, – в рабовладельческом обществе жили не только рабы, но и рабовладельцы, свободные граждане и т. д., которые принимали непосредственное участие в делах государства, особенно демократического. Так, в Афинах эпохи Перикла была развитая рабовладельческая демократия, суть которой тот выразил следующим образом: «В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, и не выказываем ему хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады. Терпимые в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения к ним, и повинуемся властям и законам, в особенности установленным в защиту обижаемых, а также законам неписаным, нарушение которых все считают постыдным»[13].
д., которые принимали непосредственное участие в делах государства, особенно демократического. Так, в Афинах эпохи Перикла была развитая рабовладельческая демократия, суть которой тот выразил следующим образом: «В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, и не выказываем ему хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады. Терпимые в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения к ним, и повинуемся властям и законам, в особенности установленным в защиту обижаемых, а также законам неписаным, нарушение которых все считают постыдным»[13].
Первобытный человек не протестовал против существующих порядков. Да ему и в голову не могла прийти мысль не покориться родовым и племенным обычаям, ослушаться вождя. Рабы же организовывали восстания, шли на войну со своими эксплуататорами, потому что осознавали собственное рабское положение. Хорошо известно восстание рабов под предводительством Спартака. Конечно, среди рабов было немало людей, которые довольствовались своим положением, верой и правдой служили хозяевам и не нуждались ни в какой свободе. О таких рабах Г. В. Ф. Гегель писал: «…раб, довольный своим положением раба, не мыслит себя, так как свобода не является его целью, следовательно, он не хочет своей всеобщности, он не хочет только того или другого»[14].
Именно при рабовладельческом строе одна часть общества получила возможность заниматься философией, наукой, культурой, то есть духовным производством, которое в первобытном обществе было непосредственно вплетено в материальную жизнь. Выделение духовного производства в самостоятельную сферу представляет гигантский прогресс в развитии человеческого общества, в расширении свободы людей. Нелишне напомнить, что генезис цивилизации связан по времени с рабовладельческим строем, когда создается фундамент цивилизации – общественное богатство – и когда социальные связи начинают доминировать над природными. Таким образом, человек эпохи рабства, даже если он раб, обладал большей свободой, чем человек эпохи первобытного строя, хотя на первый взгляд первобытный человек более свободен, чем раб.
Таким образом, человек эпохи рабства, даже если он раб, обладал большей свободой, чем человек эпохи первобытного строя, хотя на первый взгляд первобытный человек более свободен, чем раб.
Еще большей свободы человек добивается при феодальном способе производства. Рабов уже нет, человека нельзя продать, купить или убить. Крестьянин имеет возможность владеть землей, орудиями производства. У него есть семья, и он относительно свободно распоряжается своей собственностью. Конечно, при этом нельзя забывать, что сохраняется крепостная зависимость, ибо крестьянин без разрешения или без выкупа не мог покинуть деревню и помещика, на которого был вынужден работать. «Средневековое общество, – пишет Э. Фромм, – в отличие от современного характеризовалось отсутствием личной свободы… Человек почти не имел шансов переместиться социально – из одного класса в дру- гой – и едва мог перемещаться даже географически, из города в город или из страны в страну. За немногими исключениями, он должен был оставаться там, где родился. Часто он даже не имел права одеваться, как ему нравилось, или есть, что ему хотелось. Ремесленник был обязан продавать за определенную цену, а крестьянин – в определенном месте, на городском рынке»[15].
Средневековое общество характеризуется не только отсутствием личной свободы, но и общей отсталостью, общим невежеством. Жить средневековому человеку приходилось в неимоверно трудных условиях. Нельзя не привести в этой связи слова выдающегося французского историка, одного из основателей школы «Анналов» Л. Февра. «Жизнь в те времена, – пишет он, – постоянное сражение. Человека с человеком. Со стихиями. С враждебной и почти дикой еще природой. И у того, кто вышел победителем из этого сражения, кто достиг зрелости, не подвергшись слишком большим злоключениям и напастям, – у того твердая кожура, у того толстая кожа, дубленая шкура – в прямом и переносном смысле»[16].
После возникновения буржуазного общества неизмеримо расширяется пространство свободы человека. Принцип лессеферизма позволяет ему получить экономическую свободу. Теперь он ни от кого не зависит. Он может заниматься бизнесом, и если ему повезет, то разбогатеть и занять высокое место в социально-экономи-ческой иерархии общества.
Принцип лессеферизма позволяет ему получить экономическую свободу. Теперь он ни от кого не зависит. Он может заниматься бизнесом, и если ему повезет, то разбогатеть и занять высокое место в социально-экономи-ческой иерархии общества.
При капитализме человек из подданного превращается в гражданина. Он становится полноправным членом общества и может свободно принимать те или иные политические решения. Буржуазия разрушила феодальные общественные отношения, провозгласила лозунг свободного предпринимательства и формального равенства всех перед законом, упразднила сословные привилегии и сословные титулы. Классическая французская буржуазная революция 1789–1794 гг. приняла «Декларацию прав человека и гражданина», в которой было провозглашено: «1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные отличия могут основываться лишь на соображениях общей пользы. 2. Цель каждого политического союза составляет обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. 3. Источник суверенитета зиждется по существу в нации. Никакая корпорация, ни один индивид не могут располагать властью, которая не исходит явно из этого источника. 4. Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другим…»[17]
В буржуазном обществе человек формально свободен. Он может работать или не работать, заниматься бизнесом, вкладывать свой капитал в различные сферы экономики, путешествовать и т. п. Но он может и ничего не делать, ведя, например, паразитический образ жизни. Получается, что человек абсолютно свободен и может руководствоваться принципом: «Что хочу, то и ворочу». Однако суровая экономическая необходимость заставляет его, если можно так выразиться, крутиться и вертеться, так как ему надо выжить в условиях жесточайшей конкуренции. Если у него ничего нет, кроме рабочей силы, то он вынужден продавать ее либо частному лицу, либо государству. Поэтому свободу нельзя понимать как свободу от добывания средств существования, от принятых в обществе законов, от существующих принципов, от сложившихся традиций и т. д. Свобода человека в условиях капитализма выражается прежде всего в том, что в отличие от предыдущих эпох человек полностью распоряжается собой, он – юридически свободная личность и является собственником своего «я».
д. Свобода человека в условиях капитализма выражается прежде всего в том, что в отличие от предыдущих эпох человек полностью распоряжается собой, он – юридически свободная личность и является собственником своего «я».
Но парадокс буржуазной свободы состоит в том, что все свободны, и вместе с тем никто не свободен: не свободен трудящийся, так как боится потерять работу и не уверен в завтрашнем дне. Не свободен и капиталист, ибо боится обанкротиться, не выдержать конкуренции и т. д. Одним словом, дамоклов меч висит над всеми. И все же повторим, что человек эпохи буржуазии пользуется бóльшими свободами, чем во все предыдущие времена. Но еще больше свободы он получит в посткапиталистическом обществе, в котором свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех.
Свобода непосредственно связана со знаниями. Чем больше знает человек о законах объективного мира, об окружающей природной и социальной действительности, тем большей свободой он обладает, ибо может принимать такие решения, которые в рамках конкретных условий для него будут наиболее оптимальными. Поэтому нельзя не согласиться с Энгельсом в том, что свобода воли «есть не что иное, как способность принимать решения со знанием дела»[18].
Свобода детерминируется социальными и природными условиями жизни человека, и поэтому, на мой взгляд, неверно утверждение Ж. П. Сартра о том, что человеческая свобода ничем не детерминирована. «Детерминизм, – пишет он, – умиротворяющ: человек, для которого знание сводится к знанию причин, способен и действовать посредством причин, и потому, между прочим, все усилия моралистов и по сей день направлены на то, чтобы доказать нам, будто мы – всего лишь рабочие детали, поддающиеся манипуляциям с помощью подручных средств»[19]. Но человек не может вырваться за пределы тех условий, в которых ему приходится жить и работать. Первобытный человек, например, был так придавлен социальными и природными обстоятельствами, что, как уже отмечалось, фактически не имел никакой свободы. Другой вопрос – степень свободы. Она зависит от общего уровня развития общества, от его цивилизованности, от интеллекта человека, от уровня знаний, от богатства, социального или политического положения индивида и т. д. Но можно согласиться с Сартром в том, что у человека всегда есть свобода выбора. В концлагере, например, можно выбрать свободу погибнуть за Родину или не выдать своих товарищей, либо, наоборот, выбрать свободу предать всех и тем самым спасти свою шкуру.
Другой вопрос – степень свободы. Она зависит от общего уровня развития общества, от его цивилизованности, от интеллекта человека, от уровня знаний, от богатства, социального или политического положения индивида и т. д. Но можно согласиться с Сартром в том, что у человека всегда есть свобода выбора. В концлагере, например, можно выбрать свободу погибнуть за Родину или не выдать своих товарищей, либо, наоборот, выбрать свободу предать всех и тем самым спасти свою шкуру.
Нельзя не обратить внимания еще на один аспект свободы. Речь идет о потребности в свободе. В какой мере она проявляется в тех или иных жизненных ситуациях? Вот что по этому поводу говорит И. В. Гете: «Свобода – странная вещь. Каждый может легко обрести ее, если только он умеет ограничиваться и находить самого себя. И на что нам избыток свободы, который мы не в состоянии использовать? Посмотрите эту комнату и соседнее с ней помещение, в котором вы через открытую дверь видите мою кровать. Комнаты эти невелики, кроме того, они загромождены разнообразными мелочами, книгами, рукописями и предметами искусства. Но для меня этого достаточно; я прожил в них всю зиму и почти никогда не заходил в передние комнаты. Какую пользу я имел от моего просторного дома и от свободы ходить из одной комнаты в другую, когда у меня не было потребности использовать эту свободу?
Если кто-либо имеет достаточно свободы, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься своим ремеслом, то этого достаточно, а столько свободы имеет каждый. И потом все мы свободны только на известных условиях, которые мы должны выполнять»[20].
Люди очень дифференцированы, и они нуждаются в свободе разной степени. Человеку, работающему в науке, литературе, философии, живописи и т. д., нужна одна свобода, а ремесленнику, пастуху, земледельцу и т. д. – другая. Бывают ситуации, когда есть свобода, но нет интересных творческих произведений. Многие наши творческие работники в советскую эпоху жаловались на отсутствие свободы, на невозможность свободного творчества. Советской эпохи давно нет, но нет также не только великих, а даже просто талантливых произведений, хотя сейчас никто никому не запрещает творить свободно, писать о чем угодно и печататься где угодно. Пушкин не был свободен, но создавал великие произведения, без которых мировая культура немыслима. Следовательно, нужна не только свобода, нужен еще талант, способный творить и создавать эпохальные труды.
Конкретная реализация свободы проявляется в повседневной жизни людей, прежде всего в экономической, политический и духовной сферах.
В экономической сфере свобода проявляется в том, что человек как существо производящее должен иметь определенную свободу трудовой деятельности. Он, во-первых, должен иметь возможность проявить свои интеллектуальные и физические способности по созданию материальных и духовных ценностей. Иначе говоря, он должен иметь право трудиться, ибо именно в труде человек становится действительным творцом истории. Во-вторых, только свободный труд, то есть труд на себя и на общество, труд без эксплуатации и без принуждения приносит настоящее удовольствие человеку. Если даже человек получает достаточно финансов для удовлетворения своих потребностей, но зависит экономически от частных или государственных структур, то его трудно назвать свободным. В-третьих, экономическая свобода позволяет человеку воспроизводить свои физические силы, чувствовать уверенность в завтрашнем дне, использовать свободное время для физического и духовного совершенствования.
Но до настоящего времени человек был лишен такой возможности. Возьмем эпоху крепостного права. Человек был зависим от своего хозяина, как правило, бóльшую часть времени работал, обслуживал его, а если еще оставалось время, то он полностью посвящал его своему личному хозяйству. Тяжелую жизнь крепостного крестьянина блестяще описал А. Н. Радищев в своей знаменитой книге «Путешествие из Петербурга в Москву».
При капитализме, как уже отмечалось, человек формально свободен, но от этого ему не становится легче жить, особенно в современном глобализированном мире. Во-первых, в результате глобализации слаборазвитые страны фактически утратили свои национальные экономики, что привело к полной экономической зависимости. Во-вторых, резко обострились социальные контрасты. «Всего лишь 358 миллиардеров владеют таким же богатством, как и 2,5 миллиарда человек, вместе взятые, почти половина населения земли»[21]. Причем происходит не только относительное, но и абсолютное обнищание людей. Как пишут Г.-П. Мартин и Х. Шуманн, «в 1995 году четыре пятых всех американских рабочих и служащих мужского пола зарабатывали в реальном исчислении на 11 процентов в час меньше, чем в 1973 году. Другими словами, вот уже более двух десятилетий уровень жизни огромного большинства американцев падает»[22].
Во-первых, в результате глобализации слаборазвитые страны фактически утратили свои национальные экономики, что привело к полной экономической зависимости. Во-вторых, резко обострились социальные контрасты. «Всего лишь 358 миллиардеров владеют таким же богатством, как и 2,5 миллиарда человек, вместе взятые, почти половина населения земли»[21]. Причем происходит не только относительное, но и абсолютное обнищание людей. Как пишут Г.-П. Мартин и Х. Шуманн, «в 1995 году четыре пятых всех американских рабочих и служащих мужского пола зарабатывали в реальном исчислении на 11 процентов в час меньше, чем в 1973 году. Другими словами, вот уже более двух десятилетий уровень жизни огромного большинства американцев падает»[22].
В сфере политики свобода предполагает свободу слова, свободу избирать и быть избранным, свободу создавать политические партии и т. д. Политические свободы проявляются в зависимости от экономических свобод, социального положения индивида и вообще от конкретно-исторических условий. Основная характеристика политической свободы, на мой взгляд, состоит не просто в свободе слова или свободе выбора того или иного кандидата на государственную должность, а в том, чтобы человек оказывал реальное воздействие на политическую жизнь общества, что практически нереально в современном мире.
Что касается духовной сферы, то здесь свобода связана, во-первых, с овладением духовными ценностями и, во-вторых, с возможностью самому их создавать. Знание литературы, искусства, науки и т. д. помогает человеку чувствовать себя раскованным и полноценным гражданином. Человеку необходима свобода для производства духовных ценностей. Это значит:
1. Быть экономически в состоянии посвятить себя интеллектуальной деятельности. Без экономической независимости трудно рассчитывать на творческую независимость. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Нельзя не вспомнить в этой связи Лукиана из Самосаты, этого, по выражению Энгельса, «Вольтера классической древности»: «Единственное дело историка – рассказывать все так, как оно было. А этого он не может сделать, если боится Артаксеркса, будучи его врагом, или надеется получить в награду за похвалы, содержащиеся в его книге, пурпуровый кафтан, золотой панцирь, нисейскую лошадь»[23]. Ни одно государство не финансирует тех представителей творческой интеллигенции, которые выступают против него. В буржуазном обществе, например, человек свободен писать что угодно и о чем угодно, но если он затрагивает интересы господствующего класса, то ему долго приходится искать (если вообще найдет) издателя.
А этого он не может сделать, если боится Артаксеркса, будучи его врагом, или надеется получить в награду за похвалы, содержащиеся в его книге, пурпуровый кафтан, золотой панцирь, нисейскую лошадь»[23]. Ни одно государство не финансирует тех представителей творческой интеллигенции, которые выступают против него. В буржуазном обществе, например, человек свободен писать что угодно и о чем угодно, но если он затрагивает интересы господствующего класса, то ему долго приходится искать (если вообще найдет) издателя.
2. Писать по велению души и сердца, писать правдиво и отражать в своем творчестве объективные процессы.
3. Не быть контролируемым со стороны цензуры или других государственных учреждений. Главный цензор человека – его совесть, его нравственные принципы и нормы. Добродетельный человек никогда не станет писать сочинения, в которых проповедуются насилие, алчность, антигуманизм и другие пороки человечества. Он никогда не будет писать пасквили даже на своих врагов. Духовная свобода – это подлинное наслаждение для человека, стремящегося проявить себя не в накопительстве, а в интеллектуальном творчестве. Духовная свобода – это вместе с тем свобода самовыражения, свобода внутреннего ощущения. И здесь я не могу не процитировать нашего гениального поэта А. С. Пушкина:
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа –
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
– Вот счастье! Вот права…[24]
Люди так или иначе осознают свою свободу, но при этом забывают о том, что нет свободы без ответственности, хотя и нет ответственности без свободы. Нельзя понимать свободу как свободу от ответственности за свои поступки. Человек, не осознающий своей ответственности, не заслуживает свободы. Как уже выше отмечалось, у человека всегда есть возможность выбора принять то или иное решение. Предатели, убийцы, воры, подлые люди должны нести ответственность за свои поступки. И никакие ссылки на сложившиеся объективные обстоятельства не должны приниматься во внимание. В противном случае в жизни все можно оправдать такого рода объективными обстоятельствами.
Можно выделить три вида ответственности: моральную, юридическую и политическую. Моральная ответственность не влечет за собой никакого наказания. Человек сам чувствует свою ответственность перед семьей, обществом и государством, и степень ответственности зависит от его добросовестности, порядочности и человечности. Юридическая ответственность предполагает наказание за нарушение правовых норм и принципов. Что касается политической ответственности, то она во многом определяется уровнем цивилизованности общества. Прежде всего народ должен нести политическую ответственность за свои действия или бездействие в политической жизни страны. Если народ считает, что правительство постоянно его обманывает, но ничего не делает для его замены, то такой народ не заслуживает другого правительства.
Самой большой политической свободой обладают государственные деятели. Монарх, например, по существу, имеет неограниченную власть. И монарх-самодур, не чувствующий никакой ответственности, может принести огромный ущерб своему народу. В современных условиях очень велика ответственность лидеров государства. Это связано в первую очередь с наличием ядерной энергии, способной уничтожить всю мировую цивилизацию. Если во главе ядерной державы окажется безответственный человек, то от него пострадает не только народ этого государства, но и весь мир. Поэтому очень важно, чтобы к власти приходили чрезвычайно ответственные люди, психически уравновешенные и обладающие хорошим здоровьем, способные принимать ответственные решения.
Поэтому очень важно, чтобы к власти приходили чрезвычайно ответственные люди, психически уравновешенные и обладающие хорошим здоровьем, способные принимать ответственные решения.
Подведем некоторые итоги. Homo sapiens – существо загадочное. И не случайно одни исследователи его называли добрым, другие – злым, одни – гуманным, другие – негуманным, одни – бунтующим, другие – покорным. А великий русский историк В. О. Ключевский писал: «Человек – это величайшая скотина в мире»[25].
На самом деле человек как таковой ни добр, ни зол и, конечно, не скотина. Человек не живет в безвоздушном пространстве, он продукт социальной среды, и поэтому сущность его надо искать не в природе, а в обществе, и эта сущность, как писал Маркс, есть «совокупность всех общественных отношений»[26].
Но вместе с тем нельзя не отметить, что человеку присуще жить иллюзиями, верить в чудеса, в сверхъестественные силы и т. д. Он стремится к свободе, он хочет, чтобы никто ему не мешал жить и действовать в обществе. Но он живет в мире иллюзий, ибо не понимает, что жить в обществе и быть свободным от него нельзя, что себя он может проявить только в обществе, только при соблюдении общественных норм и принципов.
[1] Гоббс Т. Избр. произв.: в 2 т. – М., 1963. – T. 2. – С. 155.
[2] Вольтер. Философские сочинения. – М., 1988. – С. 258.
[3] Гольбах П. А. Избр. произв.: в 2 т. – М., 1963. – Т. 2. – С. 337.
[4] Гольбах П. А. Указ. соч. – Т. 1. – С. 173.
[5] Там же. – Т. 2. – С. 339.
[6] Там же. – С. 341.
[7] Там же. – С. 343.
[8] Гольбах П. А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 346.
[9] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 42. – С. 525.
[10] Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. – Т. 1. Наука логики. – М., 1974. – С. 337.
В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. – Т. 1. Наука логики. – М., 1974. – С. 337.
[11] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 21. – С. 99.
[12] Аристотель. Никомахова этика 8: XIII.
[13] Цит. по: Историки античности. – Т. 1. Древняя Греция. – М., 1988. – С. 304.
[14] Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М., 1990. – С. 392 .
[15] Фромм Э. Бегство от свободы. – 2-е изд. – М.: Академический проект, 1995. – С. 44.
[16] Февр Л. Бои за историю. – М., 1991. – С. 296.
[17] Документы истории Великой французской революции: в 2 т. – М., 1990. – Т. 1. – С. 112.
[18] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 20. – С. 116.
[19] Сартр Ж. П. Бодлер / Ш. Бодлер // Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники. – M., 1993. – С. 337.
[20] Гёте И. В. Избр. филос. произв. – М., 1964. – С. 458.
[21] Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации. Атака на процветание и демо-кратию. – М., 2001. – С. 46.
[22] Там же. – С. 161.
[23] Лукиан. Как следует писать историю 39.
[24] Пушкин А. С. Соч.: в 3 т. – Т. 1. Стихотворения. Сказки. Руслан и Людмила. Поэма. – М., 1985. – С. 584.
[25] Ключевский B. O. Соч.: в 9 т. – Т. IX. Материалы разных лет. – М., 1990. – С. 363.
[26] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – T. 3. – С. 3.
Свобода или Воля? — чем отличается их свобода от нашей воли?
…«Выпустил на волю» и «дал свободу» вроде об одном и том же, а получается по-разному. Разве вы не чувствуете? Как щемит, когда выпускаешь кого-то на волю, а как «фиолетово», когда даруешь кому-то свободу. Можно еще вспомнить наше стандартное выражение «дать волю чувствам». Ну, попробуйте дать своим чувствам свободу! Что? Не то? Теперь замечаете, какая между ними разница? Как от одной веет теплом, а от другой — холодом? У них слово «воля» — это твердая отточенная сталь, сияющий холодным блеском клинок. И все! А у нас? Все то же самое. Только блеск не такой холодный, ведь в нашей Воле есть еще «как?» и «где?».
Ну, попробуйте дать своим чувствам свободу! Что? Не то? Теперь замечаете, какая между ними разница? Как от одной веет теплом, а от другой — холодом? У них слово «воля» — это твердая отточенная сталь, сияющий холодным блеском клинок. И все! А у нас? Все то же самое. Только блеск не такой холодный, ведь в нашей Воле есть еще «как?» и «где?».
А если мы повнимательнее рассмотрим значение нашей Воли в смысле их «свободы»? Заметьте, сравнивать их можно только в такой последовательности, не наоборот! Что есть наша Воля? Что она в себя включает? Из чего состоит?
- Свобода действий.
- Внутренняя свобода.
- Свобода передвижения.
- Свобода волеизъявления.
- Свобода вероисповедания.
- Свобода взглядов.
- Свобода личности.
- Свобода нравов.
- Свобода мысли.
- Свобода мнений.
- Нравственная свобода.
- Общественная свобода.
- Свобода выбора.
И так далее…
Можно продолжать дальше, но, по-моему, не имеет смысла: и так все понятно. И заметьте, за каждой из этих свобод лежит талмуд, стоит гранитная плита с высеченным на ней законом. Поэтому если попытаться расшифровать смысл слова «свобода», то мы не получим ничего, кроме уточняющих вопросов:
Какая именно свобода?
Свобода кого?
Свобода чего?
Свобода от кого?
Свобода от чего?
Чья свобода?
По-моему, очевидная вещь получается: их «свобода», в отличие от нашей Воли, есть нечто не цельное, она дробится, она состоит из множества частей. И самое разительно иное отличие свободы — это ее обязательная принадлежность кому-то, она обязательно чья-то! Ведь если подробно описать каждую из этих свобод, дать ей полную свободу, то мы непременно получим следующую картину: человек, по рукам и ногам обвязанный глыбами свобод, навеки застывший статуей (глыбой) свободы.
Искусственность. Вытекающая неизбежность войны — очень благородной по слогу и очень скользкой по духу. Завоевание своей, присвоение чужой, возможность дарить (нести в массы, миру): обреченность на вечное отстаивание (сохранение свобод). Это липкое право собственности, принадлежности кому-то! Эта «ценность» по сути — цена (стоимость). Это присущее любой собственности чувство страха — страха потерять. Искусственность — невозможность собрать все свободы в единое целое: личная свобода всегда будет ограничена общественной, а общественная свобода всегда будет разрываться личной и т. д.
Иметь, завоевать, обрести, приобрести, подарить, дать, даровать свободу — участь безвольных. «Я свободен!» — так кричит раб, провернувший удачную сделку на невольничьем рынке.
Обвешанный цацками (стекляшками) всевозможных свобод, навьюченный толстыми инструкциями (законами) по их использованию и применению, но не способный сделать и шагу без юриста — свободный!..
Продолжение читайте в книге «Путевка в жизнь»
Свобода воли и детерминизм. Философия сознания от А до Я
Наличие свободы воли придает смысл нашей жизни. Но возможна ли свобода воли, если все физические процессы детерминированы (или предопределены)? Философы в этом вопросе разделились на два противоположных лагеря: компатибилистов, считающих возможным совместить представления о свободе воли с детерминизмом, и инкомпатибилистов, отрицающих такую возможность.
Дерк Перебум отстаивает позицию несовместимости свободы воли как с детерминизмом, так и с индетерминизмом. Он предлагает аргумент манипуляции, направленный против сторонников тезиса совместимости детерминизма со свободой воли. Перебум исходит из допущения, что детерминизм верен. Тогда представьте себе человека, поступки которого могут контролироваться четырьмя разными способами, но так, чтобы он с неизбежностью совершил преступление, например, убийство. В первом случае его деятельность направляет злой ученый при помощи чипа, вшитого ему в мозг. Это случай прямой манипуляции. Во втором случае чип контролирует действия благодаря выполнению программы, без участия ученого. В третьем случае человек целиком детерминируется социальной средой, генами, воспитанием и так далее. В последнем, четвертом случае, совершение преступления уже предопределено с момента Большого взрыва, как это и предполагается в трактовке детерминизма. Суть аргумента манипуляции Перебума сводится к тому, что между всеми четырьмя случаями нет принципиальной разницы. И если в первом случае человек подвергается прямой манипуляции и поэтому, что очевидно, не обладает свободой воли и не несет моральной ответственности за свои поступки, то и во всех остальных — тоже. Между манипуляцией и детерминизмом нет принципиальных отличий, считает Перебум. Значит, детерминизм несовместим со свободой воли.
В третьем случае человек целиком детерминируется социальной средой, генами, воспитанием и так далее. В последнем, четвертом случае, совершение преступления уже предопределено с момента Большого взрыва, как это и предполагается в трактовке детерминизма. Суть аргумента манипуляции Перебума сводится к тому, что между всеми четырьмя случаями нет принципиальной разницы. И если в первом случае человек подвергается прямой манипуляции и поэтому, что очевидно, не обладает свободой воли и не несет моральной ответственности за свои поступки, то и во всех остальных — тоже. Между манипуляцией и детерминизмом нет принципиальных отличий, считает Перебум. Значит, детерминизм несовместим со свободой воли.
Философы Дмитрий Волков и Кирилл Мартынов обсуждают этот аргумент в рамках нашего совместного проекта с Постнаукой «Философия сознания от А до Я».
Свобода воли
Свобода воли
Человек всегда задавался вопросом, насколько свободна его свободная воля, существующая в падшем мире, где правит закон причинности. Традиционно вопрос о свободе воли ставился так: если моя воля вплетена в сложную систему мировых причинно-следственных связей и вынужденно подпадает под его законы — свобода ее детерминирована и строго ограничена. Всякое событие настоящего момента обусловлено целой цепью событий прошлого. Всякое действие, которое будет осуществлено в будущем, предопределено тем, что происходит в настоящем.
Фихте писал: «Каждый момент… существования определен всеми протекшими моментами и определяет все будущие моменты, и невозможно мыслить теперешнее положение… иначе, чем оно есть».
Ему вторил Лейбниц: «Что… все происходит в соответствии с упрочившейся предопределенностью, так же достоверно, как и то, что трижды три — девять. Ибо предопределенность заключается в том, что все связано с чем-то другим, как в цепи, и потому все будет происходить так же неотвратимо, как это было испокон веков и как безошибочно происходит и теперь».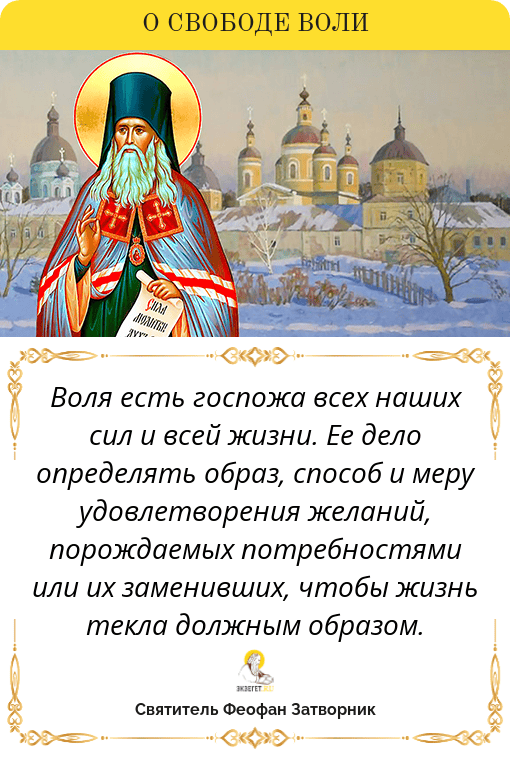
Но идея предопределенности исключает свободу человека. Действительно, детерминисты настаивают на наличии некоего «правила» (например Кант в «Критике чистого разума»), по которому и случается все, что случается. Освобождение человека видится Канту в деятельности его разума: «Разум дает… законы, которые суть императивы, то есть объективные законы свободы, и указывают, что должно происходить» . Однако в этой формуле присутствует противоречие, поскольку, согласно Канту, свобода — это как раз то, что не подчиняется никаким законам. Между тем эти «законы свободы указывают, что должно происходить, хотя, быть может, никогда не происходит; этим они отличаются от законов природы, в которых речь идет лишь о том, что происходит».
Таким образом, законы природы являются законами, связывающими фактическое бытие и устанавливающими причинные взаимосвязи, не совпадающие со сферой свободы, и поэтому субъекты, на которых распространяются закон морального долженствования или закон свободы, остаются свободными, даже если они подчиняются закономерности того, что должно происходить, что должно быть. Такое сущностное понимание нравственного закона, основанного на признании объективно — де-факто — существующих нравственных детерминант, и отождествление следования этому закону с понятием свободы делают проблематичной саму свободу воли, которая здесь полностью оказывается под диктатом императива, некоего человеческого «морального долга». В то же самое время, долг, по Канту, есть «необходимость совершения поступка из уважения к закону» . Человек оказывается со всех сторон обложенным «долгом», «необходимостью» да еще и «уважением к закону», ведь нравственный императив объявляется здесь необходимостью, которая предстает перед сознанием в качестве закона, требующего исполнения и уважения.
Как резонно замечает исследователь философии Канта Адорно, «если я реально задумаюсь о том, как мне конкретно следует себя вести, то от подобной свободы, гармонично сочетающейся с необходимостью, не останется ничего, кроме возможности вести себя, как свинья. .. Под напором этой объективной разумности, ее императивного характера и уважения, которое я обязан к ней испытывать, я буквально загнан в угол, так что в действительности мне и вправду не остается ничего иного, кроме собственной личной свободы — этой убогой свободы поступать неправильно и вести себя по-свински, сводя, таким образом, возможности собственного «я» до минимума, в котором всякая свобода исчезает».
.. Под напором этой объективной разумности, ее императивного характера и уважения, которое я обязан к ней испытывать, я буквально загнан в угол, так что в действительности мне и вправду не остается ничего иного, кроме собственной личной свободы — этой убогой свободы поступать неправильно и вести себя по-свински, сводя, таким образом, возможности собственного «я» до минимума, в котором всякая свобода исчезает».
Перед лицом кантовской «всеобщей объективной необходимости», диктуемой разумом, на долю субъекта выпадает либо подчинение ее закономерностям, либо свобода иррационального жеста: «А послать это все подальше и по своей глупой воле пожить». Конструкция кантовского «разума», заявляющего о себе как о «законе свободы», выявляет в себе жесткие механизмы репрессивности и вырождается в царство тотального долженствования человека. Таким практическим и последовательным «кантианцем» выглядит герой романа Томаса Манна «Будденброки» — директор гимназии ужасный Вулике, произносящий свои сентенции от имени всеобщего «категорического императива». Впрочем, его поведение вполне соответствует нравственному требованию Канта: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства».
Таким образом, этика «всеобщего законодательства», не основанная на признании человеческой свободы, неизбежно вырождается в резонерство, чреватое диктатурой.
Логика категорического императива здесь такова: норма, которую я устанавливаю лично для себя, лишь в том случае обретет характер абсолютного и высшего правила, когда она совпадает с собственно всеобщим и необходимым законом, которому я как разумное существо должен подчиниться. При этом категорический императив не есть некий естественный закон — в противном случае речь о свободе вообще не была бы возможной, ибо в природе нет свободы,— он есть некая нравственная инстанция, присущая разуму. Следовательно, эта моя личная норма должна являться выражением нормы всеобщей и абсолютной и устанавливаться исключительно на основании ее.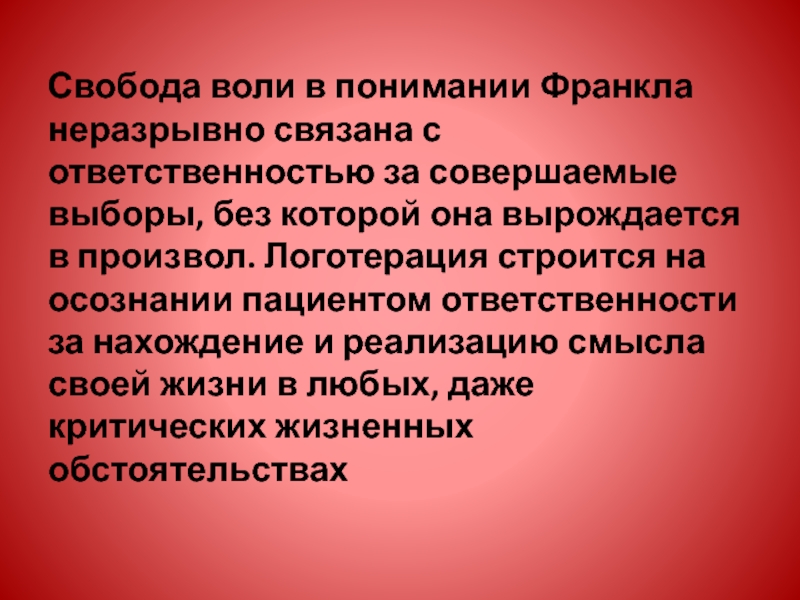
Свобода, являясь у Канта источником нравственного закона, по мере того как он становится тотальным и обязательным, устраняется: на ее место водворяется «произвол закономерности и долженствования» , и уйти от этой «всеобщей разумности», ставшей чем-то вроде фетиша, частному человеку можно лишь в иррациональное, в безумие, в абсурд.
В свободе воли отказывает человеку и Шопенгауэр, с особенной тщательностью рассматривавший вопрос о «моральной свободе»: свободе хотения. В эмпирическом плане свобода выражается в утверждении: «Я свободен, если могу делать то, что хочу». Однако философ задается вопросом: «Могу ли я хотеть то, что я хочу?»— придавая ему такой вид, словно данное хотение зависит еще и от какого-то другого, сокрытого за ним, хотения, связанного с моральным императивом, которое вызывает к жизни следующий вопрос: «Могу ли я хотеть того, что я хочу хотеть?».
На самом деле, за этими вопрошаниями, уходящими в бесконечность, стоит главное: «Могу ли я хотеть?». Ответ о свободе хотения застопоривается, поскольку понятие «свобода» оказывается в конфликте с понятием «воля», коль скоро «свободный» означает «соответствующий воле». Само хотение оказывается несвободным, но зависящим от «необходимого». Необходимо же то, что следует из данного достаточного основания. Однако необходимость всегда «с одинаковой строгостью» присуща следствию, коль скоро дано основание. Всякое же основание обладает характером принудительности: необходимость и следствие из данного основания становятся синонимическими. Из этого следует, что отсутствие необходимости (другими словами — свобода) тождественно отсутствию определяющего достаточного основания.
Итак, за «свободным» остается значение — ни в каком отношении не «необходимого», ни от какого основания не зависящего. Однако это означало бы, что индивидуальная воля в своих актах не определяется никакими причинами достаточного основания. Собственно, из этого исходит кантовское определение, по которому свобода есть способность самостоятельно начинать ряд изменений. Однако Шопенгауэр подчеркивал , что это «самостоятельно», приведенное к своему истинному смыслу, означает «без предшествующей причины», а это тождественно «отсутствию необходимости»: получается, что свободной будет лишь такая воля, которая не определяется основаниями, а поскольку все, определяющее что-либо, должно быть основанием, то есть причиною, то она и будет лишена всякого определения, ибо ее отдельные проявления будут безусловно и вполне независимо вытекать из нее самой, не порождаемые с необходимостью предшествующими обстоятельствами, а стало быть, и не подчиненные никаким правилам. Но поскольку закон достаточного основания есть существенная форма всей нашей познавательной способности, от него приходится в этом случае отказаться.
Однако Шопенгауэр подчеркивал , что это «самостоятельно», приведенное к своему истинному смыслу, означает «без предшествующей причины», а это тождественно «отсутствию необходимости»: получается, что свободной будет лишь такая воля, которая не определяется основаниями, а поскольку все, определяющее что-либо, должно быть основанием, то есть причиною, то она и будет лишена всякого определения, ибо ее отдельные проявления будут безусловно и вполне независимо вытекать из нее самой, не порождаемые с необходимостью предшествующими обстоятельствами, а стало быть, и не подчиненные никаким правилам. Но поскольку закон достаточного основания есть существенная форма всей нашей познавательной способности, от него приходится в этом случае отказаться.
Воля, по Шопенгауэру, может быть наделена такой — отрицательной — формой свободы лишь в том случае, если она является волей безразличия. Это — liberum arbitrium indifferentiae: безразличная свобода воли или «свобода безразличия».
Поскольку, как полагает философия детерминизма, человеческая воля определяется «сильнейшим мотивом», победившим в борьбе с другими — более слабыми — мотивами, в силу своего «достаточного основания» принимающим форму детерминации и опознанным в качестве «сильнейшего» post factum (ибо он признается «сильнейшим» именно потому, что он уже победил), вышеназванная гипотетическая «безразличная свободная воля» предоставляет своему носителю равную возможность в одно и то же время и при одних и тех же обстоятельствах совершить «два диаметрально друг другу противоположных поступка».
Такая детерминистская установка сводит свободу воли к позиции вышеупомянутого буриданова осла, бессильного сделать выбор между двумя одинаковыми охапками сена. Ту же ситуацию мы встречаем и в «Божественной комедии» Данте:
Меж двух равно манящих яств, свободный
В их выборе к зубам бы не поднес
Ни одного и умер бы голодный.
Такая свобода скорее свидетельствует о параличе воли, лишенной возможности движения от бессилия сделать выбор. Н. Лосский назвал эту «свободу безразличия» чистым произволом, предполагающим существование такого субъекта, который был бы лишен сущности. Но коль скоро существование без сущности, действительное существование ничто, невозможно, то и свобода безразличия не имеет существования.
Н. Лосский назвал эту «свободу безразличия» чистым произволом, предполагающим существование такого субъекта, который был бы лишен сущности. Но коль скоро существование без сущности, действительное существование ничто, невозможно, то и свобода безразличия не имеет существования.
Однако в некоем художественном или философском проекте такая форма свободы все же существует. «Вся свобода будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить», — говорит герой «Бесов» Достоевского, Кириллов.
Человек оказывается перед необходимостью мотивированного выбора, причем детерминисты полагают, что вся проблема сводится к автоматической победе сильнейшего мотива. Однако представители разных направлений мысли формулировали эти мотивы, исходя из собственных установок: материалисты, сторонники «разумного эгоизма», выбирали в качестве сильнейшего мотива инстинкт самосохранения и связанный с ним мотив пользы, Фрейд и его последователи — человеческую сексуальность , а психоаналитик Адлер, оппонент Фрейда, — мотив самоутверждения и, соответственно, самозащиты.
Достоевский замечательно писал об этом «общеобязательном» сильнейшем мотиве, который непременно, по теории, должен победить все прочие устремления.
«О скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов, а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных выгод, следовательно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро?.. И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное — одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, быть может, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие?».
Именно так же, как «подпольный человек» Достоевского, считают и индетерминисты: мотив может возникнуть в душе иррационально, неведомым образом. Отстаивание этой спонтанности побуждения кажется им залогом свободы: «Стою за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится».
Детерминисты, напротив, считают, что всякое желание или нежелание человека, всякое его побуждение, мысль, поступок, решение и даже этот «каприз» являются неизбежными плодами того или иного человеческого характера, взаимодействия его генов, комплексов, фобий, маний. Спиноза утверждал в своей «Этике», что сознание свободы в человеке есть всего лишь следствие его невежества, незнания причин именно тех, а не иных желаний, побуждений, мыслей, поступков и т. д. Человек оказывается тотально несвободным: «Воля не может быть названа причиной свободной, но только необходимой» (теорема 32).
Античные мыслители высказывались в пользу врожденности человеческих пороков и добродетелей и, следовательно, предопределенности человека к добру или ко злу. Сократ, этот «отец морали», утверждал у Аристотеля в его «Этике»: «Не в нашей власти быть хорошими и дурными» . Да и сам Аристотель подтверждает это: «Действительно, всем кажется, что каждая черта нрава дана в каком-то смысле от природы, ведь и правосудными, и благоразумными, и мужественными, и так далее… мы бываем прямо с рождения».
Так и Шопенгауэр полагал, что человек есть продукт врожденного характера и обстоятельств — воспитания, среды, судьбы. Именно здесь заключены мотивы, определяющие его волю: человек поступает именно таким, а не каким-либо иным образом лишь потому, что он не может поступить иначе.
Однако, если все же моя воля способна самоосуществляться помимо и вопреки этим правилам и законам, вопреки собственной природе и собственному воспитанию, то есть возвышаясь над влечениями, наследственностью и средой, разрывая сети причинности и тем самым творя в мире нечто новое и непредвиденное, свобода ее представляется безусловной.
Герой «Записок из подполья», отстаивая собственную свободу воли, особенно ерничает, когда речь заходит о предопределенности и детерминированности мира, заявленных Лейбницем с той же неопровержимостью, как и то, что «трижды три — девять»: «Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает?.. Но дважды два четыре — все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре — ведь это, по моему мнению, просто нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещица, но если уже все хвалить, что и дважды два пять — премилая иногда вещица».
В связи с этим встает вопрос об ответственности человека. Если человек несвободен и обречен на вынужденные поступки, как утверждают детерминисты, он должен быть освобожден от какой-либо моральной ответственности. И наоборот, если человек и в самом деле свободен от ига причинности и долженствования, которое накладывает на него мир, если его воля претендует на автономность, он рискует превратиться в узника тех иррациональных «безосновных» побуждений, которые неизбежно захватывают в плен его волю. Свобода рискует быть принесенной в жертву произволу. Именно этот герой «Записок из подполья» говорит: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить!».
Другой герой Достоевского, Ставрогин, схвативший в клубе за нос Павла Павловича Гаганова, «человека пожилого и даже заслуженного», который имел привычку приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос», и протащивший его несколько шагов, а также укусивший за ухо губернатора, объяснял это так: «Я право не знаю, как мне вдруг захотелось» . И в таком случае под вопросом может оказаться нравственная вменяемость человека.
С. Л. Франк, описывая волевой процесс, происходящий в человеке, останавливается на его двух различных модусах, выражающихся в словах «мне хочется» (или — «мне вдруг захотелось!») и «я хочу». Несмотря на то что эти выражения рассматриваются в обычной жизни как синонимы, меж ними существует коренное различие. Первое выражение означает прежде всего то, что хотение владеет мною, какое-то нечто во мне чего-то хочет, то есть производит действие. Таким образом, мое «я», подвергаясь этому действию, вынужденно чего-то хочет, будучи бессильным это хотение отринуть или подавить. «Я» оказывается в плену властно действующего внутри него импульса, выражающего непроизвольные бесконтрольные влечения. В то же самое время, выражение «я хочу», то есть самостоятельно, из собственной глубины, осуществляю свое хотение, есть формула свободы.
Несмотря на то что эти выражения рассматриваются в обычной жизни как синонимы, меж ними существует коренное различие. Первое выражение означает прежде всего то, что хотение владеет мною, какое-то нечто во мне чего-то хочет, то есть производит действие. Таким образом, мое «я», подвергаясь этому действию, вынужденно чего-то хочет, будучи бессильным это хотение отринуть или подавить. «Я» оказывается в плену властно действующего внутри него импульса, выражающего непроизвольные бесконтрольные влечения. В то же самое время, выражение «я хочу», то есть самостоятельно, из собственной глубины, осуществляю свое хотение, есть формула свободы.
Человек создан в свободе: в Божественной природе нет ничего, что являлось бы необходимой причиной создания человека и всего творения. И поэтому Он Сам, сотворивший вселенную «из ничего», не есть безличная и безликая «необходимость». «Бог з а х о т е л быть Творцом, и необусловленность Его желания придает творению нечто такое, что никак не сведешь к детерминистической космологии… Этот аспект Божественного творчества, не допускающий подчинения всеобщей необходимости, достигает наибольшей полноты в сотворении… личностей человеческих: они наделены свободой самоопределения, той аутекзусией*, в которой отцы Церкви и видят изначальную особенность существ, созданных по образу Божию».
Итак, Творец наделил человека даром свободы, над которой не властна никакая необходимость. Задача человека состоит лишь в том, чтобы, свободно устремившись к Творцу, суметь «уловить», или, как говорил преподобный Серафим Саровский, «стяжать» благодать, посылаемую ему, стать прозрачным, чтобы воспринять в себя Божественные энергии и соединиться с ними. Однако этот акт онтологической трансформации человека, этот процесс обожения, происходящий соединением Божественных и человеческих энергий, характеризуется полным отсутствием всякой необходимости, всякого детерминизма. Это — актуальное царство свободы. Ибо благодать лишь побуждает, но не понуждает волю — напротив: она пробуждает свободу, возбуждает и оживляет произволение.
Перед человеком открываются два модуса бытия при сохранении полной возможности (однако не обязательности) перемены одного модуса на другой, то есть онтологического превращения. Это означает, что у человека есть (и остается до «последнего издыхания») возможность бытийного самоопределения: человек может избрать себе путь к бессмертию и небесной славе или к смерти и вечной погибели.
То есть, иными словами, до самой последней минуты своего существования человек, предававшийся страстям и порокам, может через покаяние приобщиться к вечной жизни или даже сподобиться святости,— скажем, претерпев ради Христа мученическую кончину. Ибо и грех не лишает человека свободы, притом свободы выбора и произволения. Даже и падший грешный человек волен бороться и противостоять греху, хотя и не может победить его без помощи Божией. Даже и тот, кто делает себя игралищем страстей и «сосудом диавола», вовсе не прикован ко злу автоматически, абсолютно, так же как и человек, близкий к духовному совершенству, не привязан к добру раз и навсегда какой-либо необходимостью. Сама по себе благодать не является панацеей от греха, не связывает человека, хотя и ограждает его от искушения и соблазна: он остается свободен, и даже великий подвижник может изменить Христу, если захочет, ибо в нем сохраняется вся полнота его свободного «неустойчивого» произволения, содержащего в себе и возможность падения и богоотступничества. «…Если ты захочешь погибнуть, то природа твоя удобоизменяема. Если захочешь изрыгнуть хулу, составить отраву или убить кого — никто тебе не противится и не возбраняет. Кто хочет, тот и покорствует Богу — и идет путем правды, и владеет пожеланиями… <…> …Человек, по причине остающегося у него произвола, если захочет, делается сыном Божиим или так же и сыном погибели…».
Это и есть то, что в Православии именуется свободой. Таким образом, свобода — это онтологическое, а не психологическое понятие. Свобода — это свойство бытийного статуса, это возможность самоопределения и выбора собственной природы, «действенной самореализации в бытийной перемене, онтотрансцензусе».
Преподобный Максим Исповедник утверждал, что свобода человека сохранится и в воскресении мертвых. Мир умрет видимой своей стороной, но и воскреснет, когда вся тварь ради человека получит приснобытие, и вся природа будет восстановлена в ее изначальном ладе, чине и мере, и ничто не останется вне Бога, ибо Он будет всем во всем. Как железо в пламени, проникаясь им и делаясь с ним единым, все же продолжает оставаться железом, так и человек, соединяясь с Богом, не утрачивает своей сущности: в этом Божественном пламени не сгорит ни природа, ни свобода, ни даже «самовластие» человека.
После кончины мира произойдет распад и восстановление исконного строя человека, то есть будет всецело восстановлено его естество, однако это не означает, что его свободная воля непременно переориентируется к добру. Потому что, даже и познав добро, человек может уклониться от него. Во всяком случае, между познанием добра и его свободным избранием вовсе нет никакой причинно-следственной связи, как утверждает преподобный Максим Исповедник . Меж тем, подчеркивал он, Бог, по Своей всеблагости и любви, обымет все творение — добрых и злых, праведных и грешных, — однако не все в равной мере будут участвовать в Его любви, не все смогут принять причастие Божественных благ, ибо Божественное благобытие не может быть преподано извне, помимо и вопреки свободной воле человека, то есть насильно. Люди, сохранившие после Страшного Суда свою злую волю, уклоняющуюся от Бога и распадающуюся на множество своевольных позывов и помыслов, сами вынашивают в себе вечную муку, плач и скрежет зубов (Мф. 8, 12), поскольку Божественный пламень любви оборачивается для их греховной воли геенским огнем: Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель (Втор. 4, 24).
Как писал преподобный Исаак Сирин, «мучимые в геенне поражаются бичом любви (Божией.— О. Н.)» (слово 18) . Ибо, по преподобному Максиму, блаженство и радость возможны лишь в свободном согласовании воли человеческой с волей Божественной. Лишь свободное и творческое избрание Божественной воли, лишь освящение и преображение воли человеческой в подвиге исполнения Христовых заповедей может служить условием спасения, залогом благодатного обожения человека. Обожение и есть цель творения, цель всякой твари. Однако оно не может быть актом насилия: оно должно быть избрано и принято в свободе и любви.
Но свобода и явилась возможностью падения человека, которое было актом воли. Поэтому и грех человека укоренился в его свободной воле. По сути — грех есть ложное избрание и ложная установка произволения. Тем, что человек выбирает зло, он открывает ему путь к существованию.
Как писали святые отцы, зло не существует само по себе, оно лишено сущности, оно не есть субстанция: «Зло само по себе есть ничто, ибо оно не есть какое-либо существо и не имеет никакого состава» . Зло паразитирует на какой-либо другой сущности, произвольно уклонившейся ко злу, и делается реальным лишь в свободном извращении разумной воли, отвергающей Бога и тем самым устремленной к небытию. Уязвленная грехом воля теряет свою цельность, становится страстной и непрозрачной, больной и ограниченной в своей свободе: разум теряет власть над бесконтрольными, низшими силами души, «стихиями» падшей природы, инстинктами, принуждающими волю к повиновению. Нарушается вложенная в человека Творцом естественная иерархия души: плоть начинает паразитировать на силах души, душа присваивает себе полномочия духа. Дух уклоняется от Бога и тянется к небытию. В этом греховном состоянии он постепенно перестает различать в себе «голос Божий», узнавать в Боге своего Творца и Спасителя. Человек в таком состоянии души и не может помыслить свою свободу иначе как свободу выбирать. Как правило, выбор его происходит между земным и земным, между греховным и греховным, между страстным и страстным.
Именно такое редуцированное и суженное понимание свободы исключительно как «свободы выбора», относящейся лишь к поведению человека в эмпирическом мире, возобладало в новоевропейской философии.
Воля Божия и воля человеческая
«достигший отсечения своей воли достиг места покоя»
Слова Господа, что и волос не пропадет с головы без воли Божией, относятся к тем, кто живет по Его святой воле.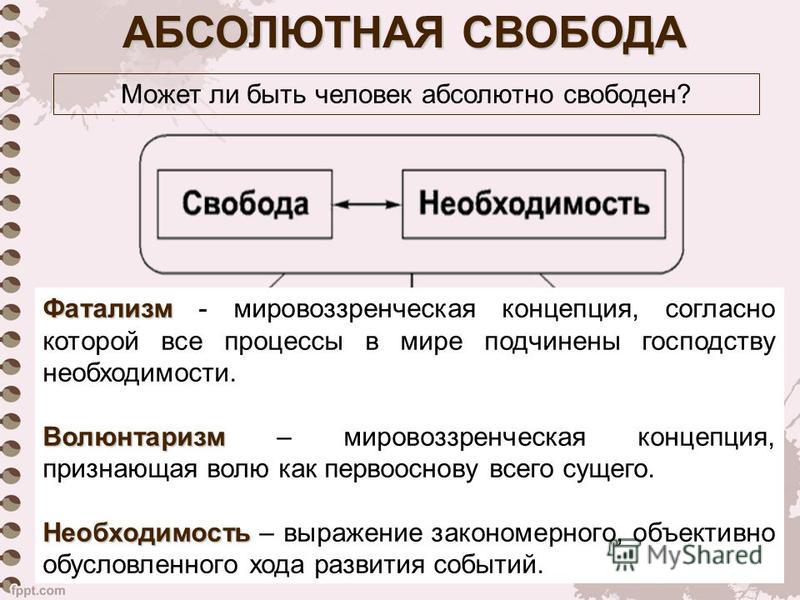 Таких Господь хранит особенным Своим Промыслом, и ничего с ними не случается без воли Божией. Промысел же Божий хранит, — это надо понимать так, что Господь охраняет всякого человека, чтобы он мог жить. Господь всё подает для жизни: одежду, еду. Жизнь человеку Господь хранит, чтобы он успел обратиться к Богу и покаяться.
Таких Господь хранит особенным Своим Промыслом, и ничего с ними не случается без воли Божией. Промысел же Божий хранит, — это надо понимать так, что Господь охраняет всякого человека, чтобы он мог жить. Господь всё подает для жизни: одежду, еду. Жизнь человеку Господь хранит, чтобы он успел обратиться к Богу и покаяться.
Но нужно правильно понимать волю Божию: действие воли Божией есть содействующее, а есть попускающее. Эти понятия нужно различать и их нельзя смешивать. Воля Божия содействующая — содействует всему тому, что служит ко спасению. Но есть у воли Божией действие попускающее. Люди живут по своим страстям и похотям. На это воли Божией нет, этому Она не содействует, но попускает.
Образно это можно выразить так: один хочет делать добро, а другой ему в этом помогает — вот так действует воля Божия, содействующая. А в другом случае: один делает зло, а другой и не помогает и не запрещает, стоит как бы в стороне, и в этом не участвует — вот так действует воля Божия попускающая.
Промысел Божий хранит всех. Но с праведными — только по воле Божией всё случается. С теми, кто не живет по воле Божией, — по попущению Божию. Апостол Павел сказал: «.. любящим Бога все содействует ко благу» (Римл. 8:28).
Святые отцы утверждают, что у христиан должно быть три главных качества:
Наша воля должна соединиться с волей Божьей, чтобы было одно с Богом по подобию Сына Человеческого — Иисуса Христа. Так и сказал Иисус Фоме «Разве ты не знаешь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя: Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 4:1).
Если мы по этому подобию пребываем во Христе и Христос в нас, это единство вместе с единством Отца и Сына соединяет нас с волей Божьей. Воле Божьей предаем мы наши души и тела. Так и читаем мы: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
 Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира да будет с вами» (Фил. 4. 8).
Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира да будет с вами» (Фил. 4. 8).
Воля Божия — это то, чего Бог требует от людей. Но, вместе с тем, воля Божия — это не только требование, стоящее «над» человеком или «перед» человеком, но и таинственное внутреннее воздействие, которым Бог помогает человеку совершить то, что он должен совершить. Когда человек исполняет требование Божией воли, он совершает его не только своей собственной силой воли, но и той таинственной силой, или действием Бога, которое называется благодатью. Отсюда следует, что воля Божия — это не только абсолютное нравственное требование, но и благой дар, достигаемый в единстве, согласии и взаимодействии воли человеческой с волей Божией.
Когда Бог открывает Свою благую волю, человек не должен «советоваться с плотью и кровью» (Гал. 1:16), но должен следовать тому, что требуется от него Божественным призванием.«Итак умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 6:9).
«…зная, что Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над ним власти, ибо, что Он умер, то умер однажды для греха (искупив грех Адама, авт.), а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, а живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его…» (Рим. 12:1).
Православная Церковь учит и исповедует, что предвечное предопределение Божие о мире и человеке не исключает и не устраняет личную свободу отдельного человека. При этом предопределение Божие, понимаемое как абсолютное предведение Божие о всем, что совершается во времени, ничем не ограничивает нравственную свободу человеческой личности.
«Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» (1 Фес. 4:3).
Господь всемогущ, любит нас и хочет каждого привести к спасению. «И мир преходит, и похоть его, а творяй волю Божию пребывает во веки» (1 Ин. 2:17).
Святые отцы употребляют богословское понятие синергия (греч. synergos — вместе действующий). Мы не можем спастись без Божией благодати, а подается она только тому, кто поступает по воли Божией.
Бог дал свободу воли и не спасает нас насильно. Если бы все и во всем исполняли волю Божию, то наступило бы идеальное состояние мира: не было бы согрешающих и духовно погибающих. Поэтому так много в святоотеческих творениях говорится о исполнении воли Божией.
Богословы различают в воле Божьей два аспекта: желание Божие и попущение Божие. Желание Божие это абсолютная воля Божия, которая хочет вечного спасения для Своего творения — человека. Бог хочет блага для нас больше, чем мы хотим этого сами. Но абсолютная воля Божия встречает препятствие в свободной воле человека, которая колеблется между добром и злом.
Свободная воля дана человеку, как образу и подобию Божию. Без возможности свободы выбора не существовало бы добра, как такового, а поступками человека и даже его внутренними действиями руководила бы необходимость. Свободная воля это одно из главных достоинств человека, и в тоже время, огромная ответственность для него. Без свободной воли не может осуществиться само спасение человека, так как спасение это богообщение — жизнь с Богом, вечное приближение к Богу, озарение и просвещение души человека божественным светом. Человек добровольно должен выбрать путь спасения — иметь Бога главной целью своей жизни. Само спасение — это любовь Творца к Своему творению и творения к своему Творцу. Поэтому спасение носит глубоко личностный характер. Богословы употребляют здесь термин синергизм, то есть взаимодействие двух волей — божественной и человеческой.
Конфликт между божественной и человеческой волей порождает ту относительную волю Божию, которая называется допущением. Бог допускает направление человеческой воли не только в сторону добра, но и зла. Если бы Бог физически пресекал зло, то тогда свобода стала бы фикцией, более того, все человечество было бы обречено на уничтожение: ведь каждый из нас совершал тяжелые грехи, где его спасало только долготерпение Божие.
Так как «нет праведного ни одного…все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:10,23). Только верою в Иисуса мы можем стать праведными: «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность» (Рим. 4:5). Чтобы наша вера вменилась в праведность, нужны дела, так как «вера без дел мертва» (Иак. 2:26). Вот суть эти дела: не грешить, слушаться Бога, искать Его лица, Царство Его.
Не грешить — это не иметь дела плоти: «…прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное…» (Гал. 5:19-21). А нужны дела: «…любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание…» (Гал. 5:22,23) — плоды духа.
Преподобный Иоанн Лествичник в своей знаменитой «Лествице», пишет «то, что от Бога, умиряет душу человека, то, что против Бога, душу смущает и приводит ее в неспокойное состояние».
Иисус нас учит искать единственное — это волю Божию: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). Царство Божие — есть воля Божия: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).
Свобода Богочеловека Господа Иисуса Христа в тех проявлениях, как она описана в Святом Евангелии, предстает перед нами в двойном аспекте: это свобода в послушании Небесному Отцу и свобода господства над природной необходимостью.
Свободная воля Господа Иисуса Христа как воля совершенного Человека во всем следовала Божественной воле Отца: «Не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк. 14:36); «не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Своим учением, Своими делами и всей Своей жизнью Христос творил не Свою волю, но волю пославшего Его Отца, заключающую в себе тайну будущего всеобщего воскресения (Ин. 6:38-39). Евангелие свидетельствует о том, что Христос пребывал в подвиге борения: Гефсиманская молитва явилась торжеством нравственно-волевой победы человеческой природы Христа над ее естественной немощью, динамически приобретенной Адамом в грехопадении и потенциально усвоенной Сыном Божиим в Воплощении, с тем, чтобы побежденное в Адаме победило во Христе. В послушании Небесному Отцу человеческая свобода Христа проявила и осуществила себя во всей своей идеальной полноте.
Свобода Богочеловека в господстве над природной необходимостью проявилась в Его добровольном подчинении закономерностям жизни мира. По Своему бесконечному милосердию, добровольно, Бог Слово воплотился, вступил в сферу конкретных природных и исторических условий. И хотя в каждый отдельный момент Своей земной жизни Сын Божий имел власть изъять Себя из-под действия этих исторических общественных воздействий, Он в Своем вочеловечении не захотел превышать Своим Божественным всемогуществом границ тварного естества, не отстранил от Себя и неизбежную для всякого человека смерть.
Христос до конца разделил участь человека, утратившего свою первозданную свободу и унаследовавшего физическую обреченность и смерть. Подчинив Себя природной необходимости, Сын Божий преодолел налагаемые ею ограничения свободы. Вступив в мир, Он вошел в область отравленного злом бытия, принял плоть находившегося под бременем греха со-человека. Торжеством Христа над природной необходимостью явились совершенные Им сверхъестественные чудеса, предварившие во времени Его победу над смертью и Его славное Воскресение. Абсолютная полнота власти над природной необходимостью была явлена Богочеловеком в том, что Он был свободен отдать Свою жизнь и свободен снова принять ее (Ин. 10:18). Предпосылкой Его Воскресения была победа свободы любви над ужасом страданий и смерти, объявшим Его человеческое естество в страшный час Гефсиманской ночи. В обладании любви и свободы Он следовал воле Небесного Отца.
10:18). Предпосылкой Его Воскресения была победа свободы любви над ужасом страданий и смерти, объявшим Его человеческое естество в страшный час Гефсиманской ночи. В обладании любви и свободы Он следовал воле Небесного Отца.
А. Соколовский
свобода воли: Электронная еврейская энциклопедия ОРТ
СВОБО́ДА ВО́ЛИ, философское и теологическое понятие, отражавшее первоначально наблюдение, что человек способен выбирать между несколькими возможными линиями поведения, становясь в результате своего выбора причиной избранного им действия. С понятием свободы воли тесно связаны идеи Божественного провидения и Божественного всеведения (см. Бог).
Содержание:
- В Талмуде и Мидраше
- В еврейской философии
- В еврейской мысли нового времени
В Библии содержится утверждение Божьего промысла и даже предопределения Богом судьбы и одновременно свободы воли человека и его ответственности за свои действия. В ряде мест говорится об ответственности детей за грехи отцов (Исх. 20:5; Втор. 5:9). Против этой идеи восстает пророк Иехезкель (Иех. 18:2, 7–28; 33:2–19). В другом месте сказано, что дети отвечают за грехи отцов лишь в том случае, когда следуют их примеру (Лев. 26:39). Во Второзаконии народу Израиля предлагается совершить выбор между жизнью и смертью, благословением и проклятием (Втор. 30:19).
Учение о свободе выбора между добром и злом составляло ядро воззрений фарисеев. Иосиф Флавий характеризует расхождения между фарисеями и их противниками — саддукеями и ессеями — как разногласия между теми, кто признавал свободу человека и Божественное провидение (фарисеи), теми, кто приписывал все случаю, отрицая направляющую роль провидения (саддукеи) и теми, кто отрицал свободу человека, придерживаясь учения о предопределении (ессеи; Война 2:162 и далее; Древ. 13:171; 18:12 и далее).
Хотя законоучители Талмуда считали доктрину взаимодействия свободы воли и Божественного провидения одним из важнейших принципов веры, в талмудических текстах нет систематического изложения этой доктрины. С одной стороны, в Талмуде постоянно встречаются указания на то, что ничто в этом мире не происходит без предопределения свыше (см. Иома 38б; Хул. 7б; Кт. 30а; Сота 2а). С другой — все теологические построения законоучителей, относящиеся к проблеме воздаяния, основаны на мысли, что человек свободен творить добро и зло. Как отмечает Иосиф Флавий, законоучители хотели придерживаться одновременно обеих доктрин, несмотря на видимое противоречие между ними и сознавая парадоксальность такого сочетания. Согласно Талмуду, ангел вопрошает Бога в каждом зачатии, станет ли человек сильным или слабым, мудрым или глупым, богатым или бедным, но не спрашивает, станет ли он злым или праведным, ибо «все в руках Божьих, кроме страха Божьего» (Нид. 16б).
Соединение двух противоречивых доктрин законоучителями диктовалось не столько философскими, сколько практическими соображениями. Философские проблемы, связанные с сочетанием доктрин Божественного провидения и свободы воли человека, рассматриваются законоучителями лишь бегло и поверхностно. Наиболее интересно в этом смысле высказывание рабби Акивы: «Все предвидено, но свобода дана; мир судится по благости, однако все зависит от большинства деяний» (Авот 3:15). Это изречение-парадокс впоследствии подвергалось философскому толкованию (например, Маймонидом) в том смысле, что Бог предвидит все действия человека, но не ограничивает его свободы.
Позиция Филона Александрийского в вопросе свободы воли не была достаточно определенной. С одной стороны, он постулировал свободу воли, то есть способность выбирать между добром и злом на основании умения различать их. С другой — он выражал мнение, что выбор человеком добра или зла предопределен борьбой между его склонностями и влиянием внешних сил. Са‘адия Гаон, который подвергся сильному влиянию философии мутазилитов (сторонников умозрительной мусульманской теологии — калам), полагал, что идея Божественной справедливости с необходимостью предполагает свободу воли человека. Согласно Са‘адии, немыслимо, чтобы Бог принуждал человека совершить поступок, за который Он сам позднее накажет его. Если бы не было свободы воли, праведным и грешным причиталось бы равное воздаяние, так как и те и другие лишь выполняют Божью волю. Са‘адия апеллирует к непосредственному ощущению человеком своей свободы поступать так или иначе («Эмунот ве-де‘от»). В соответствии с учением мутазилитов, Са‘адия утверждает, что каждому действию предшествует во времени способность совершить его или воздержаться от его совершения. Эта реальная способность лежит в основе свободы выбора. Согласно Са‘адии, человеческие и Божественные понятия добра и зла идентичны.
Согласно Са‘адии, немыслимо, чтобы Бог принуждал человека совершить поступок, за который Он сам позднее накажет его. Если бы не было свободы воли, праведным и грешным причиталось бы равное воздаяние, так как и те и другие лишь выполняют Божью волю. Са‘адия апеллирует к непосредственному ощущению человеком своей свободы поступать так или иначе («Эмунот ве-де‘от»). В соответствии с учением мутазилитов, Са‘адия утверждает, что каждому действию предшествует во времени способность совершить его или воздержаться от его совершения. Эта реальная способность лежит в основе свободы выбора. Согласно Са‘адии, человеческие и Божественные понятия добра и зла идентичны.
В противоположность аристотеликам, Са‘адия считает, что одной из важнейших функций человеческого ума является непосредственное постижение этих понятий. Отсюда следует, что человек вправе ставить вопрос о справедливости Божьих действий, особенно когда они касаются людских грехов, которые сами служат наказанием за грехи. Так, например, Авшалом согрешил, восстав против своего отца, Давида, и этот грех был порожден его свободной волей. Однако попытка Авшалома захватить престол отца служила наказанием за грехи Давида.
В отличие от крайних мутазилитов, Са‘адия не видит никакого противоречия между свободой воли человека и Божьим ведением того, какой поступок изберет человек. Это провидение, согласно Са‘адии, не ограничивает свободы человека, так как не является причиной его действий.
Бахья Ибн Пакуда в сочинении «Ховот ха-левавот» («Обязанности сердца») кратко излагает идеи сторонников предопределения и сторонников свободы воли и приходит к выводу о невозможности теоретического решения этого вопроса. Поэтому, по его мнению, человек должен поступать так, как тот, кто верит в свободу воли, и в то же время полагаться на Бога как тот, кто убежден в предопределенности всех своих действий. Бахья Ибн Пакуда пытался примирить теодицею Са‘адии с полным преданием себя воле Бога и отказом от собственной свободы, характерными для учения мусульманских мистиков-суфиев, влияние которых он испытал.
Иехуда ха-Леви, подобно Са‘адии, признает свободу воли. Доказательством свободы воли является, по его мнению, тот факт, что только действия, порожденные свободным выбором, заслуживают похвалы или порицания. В отличие от Са‘адии, он привносит в обсуждение проблемы свободы воли классификацию причин, в которой отразилось влияние аристотелевской школы. Согласно Иехуде ха-Леви, первопричина всего — Бог, творящий вторичные, промежуточные причины, в соответствии с которыми все действия и явления подразделяются на естественные (то есть являющиеся результатом естественного порядка), случайные и основанные на свободе воли (зависящие от человеческого выбора). Даже первые два вида явлений не полностью подчинены необходимости, но лишь свободный выбор целиком принадлежит к области возможного. Подобно Са‘адии Гаону, Иехуда ха-Леви не видит противоречия между понятием свободы выбора и мнением, что Бог предвидит все, что произойдет. Как и Са‘адия, он полагает, что Божественное провидение не может рассматриваться как производящая причина события. Тем не менее, Иехуда ха-Леви считает, что его определение свободы воли как промежуточной причины с необходимостью влечет за собой взгляд на поступки, порожденные свободой воли, как на подчиненные влиянию Божественного повеления. Человек, согласно Иехуде ха-Леви, должен действовать самостоятельно, полагаясь на свои силы и не искушая Господа чрезмерной зависимостью от Него. Иногда, однако, Бог действует, не прибегая к посредству вторичных причин и сотворяя чудо.
Аврахам Ибн Дауд говорил, что он написал свою книгу «Ха-эмуна ха-рама» («Возвышенная вера»; арабский оригинал «Ал-‘акида ар-рафи‘а»), ради одной цели: обсуждения проблемы свободы воли. Однако этому вопросу посвящен лишь небольшой раздел его книги. Позиция Ибн Дауда в этом вопросе подобна позиции Иехуды ха-Леви. Он подразделяет причины на Божественные, естественные, случайные и зависящие от свободы воли. В этом Ибн Дауд расходится со своим учителем Ибн Синой (Авиценной), который считал, что предопределено все, в том числе волевые акты.
Маймонид в «Море невухим» («Наставник колеблющихся») рассматривал вопрос свободы воли в связи с проблемой провидения. Он различал пять учений о провидении, из которых учение Торы гласит, что человек обладает свободой выбора. В «Наставнике» Маймонид, в отличие от таких мусульманских философов, как Авиценна, считал произвольные действия человека не подчиненными абсолютному детерминизму. В Мишне Тора («Повторение Закона») Маймонид занял более четкую позицию в вопросе о свободе воли: каждый человек может избрать добро или зло. Бог не предопределяет, будет ли конкретный человек праведным или грешным. Иначе воздаяние лишалось бы смысла. Аргументу, что Бог знает заранее, будет ли человек праведным или грешным, Маймонид противопоставил утверждение, что Божественное знание настолько отличается от человеческого, что человеческий ум просто не может его постичь. Несомненно, однако, что человек ответственен за свои действия и что Бог не повелевает ему поступать определенным образом. Это доказывается не только религиозной традицией, но и ясными аргументами разума (Яд, Тшува, глава 5). Маймонид не пытался решить проблему согласования Божьего всеведения со свободой воли человека, так как это решение, по его мнению, лежит за пределами человеческого понимания.
Герсонид (Леви бен Гершом) в сочинении «Сефер милхамот ха-Шем» («Книга войн Господних») принимал понятие свободы воли, но предлагал собственное решение проблемы согласования его с понятием Божьего всеведения. Бог, по его мнению, знает общий порядок вселенной, предопределенный положением звезд. Однако не все события, происходящие в мире, должны соответствовать этому общему порядку. Обладая свободой воли, человек может поступать противоположно тому, что было предназначено ему расположением звезд. Таким образом, Бог и активный разум не касаются тех событий, которые происходят в действительности, но знают лишь то, что должно произойти. В своем учении о свободе воли Герсонид следовал одновременно традиции еврейской философии и греческих аристотеликов, которые отрицали действие абсолютного детерминизма в подлунном мире.
Хасдай Крескас придерживался детерминистских взглядов на свободу воли, следуя мусульманской философской традиции, нашедшей выражение в тезисе Авиценны: выбор человека абсолютно предопределен внутренними и внешними причинами. Крескас считал волевые действия необходимыми, а не свободными, поскольку они известны Богу до их осуществления. Однако эта идея, по его мнению, не должна становиться достоянием масс, которые могут воспользоваться ею для оправдания злых поступков. Вместе с тем Крескас различал добровольные действия и действия, совершенные под принуждением. Лишь первые подлежат награде или наказанию, и лишь к таким действиям относятся предписания и запреты Торы, не ограничивающие, однако, действие абсолютного детерминизма. С другой стороны, верования и мнения человека не зависят от его воли и не должны поэтому служить причиной награды или наказания.
Г. Коген отрицал свободу воли в смысле неподчиненности воли механическим причинам, но признавал ее существование в сфере этики, где она соотносится с понятием цели человечества. Подлинная свобода будет существовать лишь в идеальном обществе, которое составляет цель человечества. Ныне же свобода является задачей, над которой надо работать.
М. Бубер относил свободу воли к царству отношений «Я — Ты» в противоположность царству отношений «Я — Оно», где господствует причинность. Для Бубера главная проблема состоит не в том, возможен ли выбор (в царстве «Я — Ты»), но в том, каков этот выбор — избирается добро или зло. Так как человек свободен избрать зло, он свободен и преодолеть его. Современный человек, согласно Буберу, верит в слепую судьбу еще более, чем древний язычник. Эта вера воплощена в различных доктринах материализма. Однако в глубине души человека заложена подлинная свобода; его жизненный путь не предначертан судьбой, но творится им самим, его свободной волей. Внешние условия являются предпосылками его действий, а не факторами, детерминирующими его характер. Свобода человека состоит не в отсутствии внешних ограничений, но в способности, несмотря на них, вступать в диалог, то есть в отношения «Я — Ты».
А. И. Хешел делит все происходящее во внешнем мире на «процессы», подчиненные регулярной закономерности, и «события» необычные и уникальные. Человек до некоторой степени порабощен средой, обществом и своим характером, однако он может мыслить, желать и принимать решения, преодолевающие эти ограничения. Отношение к людям как к «процессам» уничтожает свободу. Человек свободен в редкие мгновения; свобода — это «событие». Каждый в потенции свободен, но лишь немногие реализуют эту потенцию. Свобода воли, способность выбора не тождественна свободе как самоопределению.
М. Каплан полагает, что идея свободы воли, как она была сформулирована в прошлом, не соответствует духу современности, который ищет во всем причинности. Поэтому он трактует понятие свободы воли как выражение идеи о неразрывной связи ответственности со свободой. Свобода становится духовной проблемой, связанной, с одной стороны, со значением личности, а с другой — с освобождением личности от самопоклонения и стремления к власти (см. также Философия).
Два понимания свободы | Библиотека
Принуждать человека — значит лишать его свободы, но свободы от чего? Почти все моралисты в истории человечества прославляли свободу. Значение этого слова, равно как и некоторых других — счастья и доброты, природы и реальности — столь многослойно, что найдется немного истолкований, которые окажутся для него непригодными. Я не намерен рассматривать ни историю этого многослойного слова, ни тем более две сотни его значений, выявленных историками идей. Я собираюсь рассмотреть только два его значения, которые, будучи центральными, вобрали в себя значительную долю человеческой истории, как прошлой, так, осмелюсь утверждать, и будущей. Первое из этих политических значений свободы я буду (следуя во многом прецеденту) называть «негативным», и это значение подразумевается в ответе на вопрос: «Какова та область, в рамках которой субъекту — будь то человек или группа людей — разрешено или должно быть разрешено делать то, что он способен делать, или быть тем, кем он способен быть, не подвергаясь вмешательству со стороны других людей?». Второе значение я буду называть позитивным, и оно подразумевается в ответе на вопрос: «Что или кто служит источником контроля или вмешательства и заставляет человека совершать это действие, а не какое-нибудь другое, или быть таким, а не другим?». Безусловно, это разные вопросы, хотя ответы на них могут частично совпадать.
I
Понятие «негативной свободы»
Обычно говорят, что человек свободен в той мере, в какой никто: ни другой человек, ни группа людей — не препятствует его действиям. Политическая свобода в этом смысле и есть та область, в рамках которой человек может действовать, не подвергаясь вмешательству со стороны других. Если другие люди не позволяют мне сделать то, что в противном случае я мог бы сделать, то в этой степени я несвободен; если из-за действий других людей упомянутая область сжимается, уменьшаясь далее известного предела, то обо мне можно сказать, что я нахожусь в состоянии принуждения и, возможно, даже порабощения. Однако слово принуждение не охватывает все случаи, когда мы не способны что-либо сделать. Если я не способен прыгнуть выше десяти футов, или не могу читать из-за слепоты, или тщетно пытаюсь понять наиболее темные места у Гегеля, то было бы странным говорить, что в этой степени я подвергаюсь порабощению или принуждению. Принуждение предполагает намеренное вторжение других людей в область, где в противном случае я мог бы действовать беспрепятственно. Вы только тогда лишены политической свободы, когда другие люди мешают вам достичь какой-либо цели. Простая неспособность достичь цели еще не означает отсутствия политической свободы. Об этом свидетельствует и современное употребление таких взаимосвязанных выражений как «экономическая свобода» и «экономическое рабство». Доказывают, порой очень убедительно, что если человек слишком беден и не может позволить себе купить буханку хлеба, совершить путешествие по миру или обратиться за помощью в суд, хотя на все это нет юридического запрета, то он не более свободен, чем когда это запрещено законом. Если бы моя бедность была своего рода болезнью и не позволяла бы мне покупать хлеб, оплачивать путешествия по миру или добиваться слушания моего дела в суде, как хромота не позволяет мне бегать, то было бы неестественно видеть в ней отсутствие свободы, тем более — политической свободы. Только в том случае, если я объясняю свою неспособность приобрести какую-либо вещь тем, что другие люди предприняли определенные меры, и поэтому я, в отличие от них, не имею денег для приобретения данной вещи, только в этом случае я считаю себя жертвой принуждения или порабощения. Другими словами, употребление слова «принуждение» зависит от принятия определенной социально-экономической теории, объясняющей причины моей нищеты и неспособности что-либо делать. Если отсутствие материальных средств вызвано недостатком умственных и физических способностей, то, только приняв указанную теорию, я стану говорить не просто о нищете, а об отсутствии свободы. Если к тому же я считаю, что моя нужда обусловлена определенным социальным устройством, которое, на мой взгляд, является несправедливым и нечестным, то я буду говорить об экономическом рабстве или угнетении. «Не природа вещей возмущает нас, а только недобрая воля», — говорил Руссо. Критерием угнетения служит та роль, которую, по нашему мнению, выполняют другие люди, когда прямо или косвенно, намеренно или ненамеренно препятствуют осуществлению наших желаний. Свобода в этом смысле означает только то, что мне не мешают другие. Чем шире область невмешательства, тем больше моя свобода.
Именно так понимали свободу классики английской политической философии. Они расходились во взглядах относительно того, насколько широкой может или должна быть упомянутая область. По их мнению, при существующем положении вещей она не может быть безграничной, ибо ее безграничность повлекла бы за собой то, что все стали бы чинить бесконечные препятствия друг другу, и в результате такой «естественной свободы» возник бы социальный хаос, и даже минимальные потребности людей не были бы удовлетворены, а свобода слабого была бы попрана сильным. Эти философы прекрасно понимали, что человеческие цели и действия никогда сами по себе не придут в гармонию, и (какими бы ни были их официальные доктрины) они ставили выше свободы такие ценности, как справедливость, счастье, культура, безопасность или различные виды равенства, а потому были готовы ограничивать свободу ради этих ценностей или даже ради нее самой. Ибо иначе было бы невозможно создать желательный, с их точки зрения, тип социального объединения. Поэтому, признавали эти мыслители, область свободных действий людей должна быть ограничена законом. Однако в равной мере они допускали — в особенности такие либертарианцы, как Локк и Милль в Англии, Констан и Токвиль во Франции — что должна существовать некоторая минимальная область личной свободы, в которую нельзя вторгаться ни при каких обстоятельствах. Если эта свобода нарушается, то индивидуальная воля загоняется в рамки слишком узкие даже для минимального развития природных человеческих способностей, а без этих способностей люди не только не могли бы добиваться целей, которые они считают благими, правильными или священными, но и были бы не способны просто ставить эти цели перед собой. Отсюда следует, что необходимо провести границу между сферой частной жизни и сферой публичной власти. Где ее провести — об этом можно спорить, а, по сути, и заключать соглашения. Люди во многих отношениях зависят друг от друга, и никакая человеческая деятельность не может быть настолько частной, чтобы никак и никогда не затрагивать жизнь других людей. «Свобода щуки — это смерть пескаря»; свобода одних зависит от ограничений, накладываемых на других. «Свобода оксфордского профессора, — как кто-то может добавить, — это нечто иное по сравнению со свободой египетского крестьянина».
Эта идея черпает свою силу в чем-то одновременно истинном и важном, хотя сама фраза рассчитана на дешевый политический эффект. Несомненно, предоставлять политические права и гарантию невмешательства со стороны государства людям, которые полуголы, неграмотны, голодны и больны, значит издеваться над их положением; прежде всего этим людям нужна медицинская помощь и образование и только потом они смогут осознать свою возросшую свободу и сумеют ею воспользоваться. Чем является свобода для тех, кто не может ею пользоваться? Если условия не позволяют людям пользоваться свободой, то в чем ее ценность? Прежде следует дать людям наиболее важное; как говорил радикальный русский писатель девятнадцатого века, иногда сапоги важнее произведений Шекспира; индивидуальная свобода — не главная потребность человека. Свобода — это не просто отсутствие какого бы то ни было принуждения; подобная трактовка слишком раздувает значение этого слова, и тогда оно может означать или слишком много, или слишком мало. Египетский крестьянин прежде всего и больше всего нуждается в одежде и медицинской помощи, а не в личной свободе, но та минимальная свобода, которая нужна ему сегодня, и то расширение свободы, которое понадобится ему завтра, — это не какая-то особая для него разновидность свободы, а свобода, тождественная свободе профессоров, художников и миллионеров.
Думаю, муки совести у западных либералов вызваны не тем, что люди стремятся к разной свободе в зависимости от их социально-экономического положения, а тем, что меньшинство, обладающее свободой, обрело ее, эксплуатируя большинство или, по крайней мере, стараясь не замечать, что огромное большинство людей лишено свободы. Либералы имеют все основания считать, что если индивидуальная свобода составляет для людей высшую цель, то недопустимо одним людям лишать свободы других, а тем более — пользоваться свободой за счет других. Равенство свободы; требование не относиться к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они относились к тебе; исполнение долга перед теми, благодаря кому стали возможны твои свобода, процветание и воспитание; справедливость в ее наиболее простом и универсальном значении — таковы основы либеральной морали. Свобода — не единственная цель людей. Я мог бы, вместе с русским критиком Белинским, сказать, что если другие люди лишены свободы, если мои братья должны жить в нищете, грязи и неволе, то я не хочу свободы и для себя, я отвергаю ее обеими руками и безоговорочно выбираю участь моих братьев. Но мы ничего не выиграем, если будем смешивать понятия. Пусть, не желая терпеть неравенство и широко распространившуюся нищету, я готов пожертвовать частью или даже всей своей свободой; я могу пойти на эту жертву добровольно, но то, от чего я отказываюсь ради справедливости, равенства и любви к своим товарищам, — это свобода. У меня были бы все основания мучиться сознанием вины, если бы при известных обстоятельствах я оказался не готовым принести эту жертву. Однако жертва не ведет к увеличению того, чем было пожертвовано: роста свободы не происходит, как бы ни были велики моральная потребность в жертве и компенсация за нее. Все есть то, что есть: свобода есть свобода; она не может быть равенством, честностью, справедливостью, культурой, человеческим счастьем или спокойной совестью. Если моя свобода, свобода моего класса или народа связана со страданиями какого-то количества людей, то система, где возможны такие страдания, несправедлива и аморальна. Но если я урезаю свою свободу или отказываюсь от нее полностью, чтобы испытывать меньше позора из-за существующего неравенства, и при этом индивидуальная свобода других, по существу, не возрастает, то происходит потеря свободы в ее абсолютном выражении. Это может быть возмещено ростом справедливости, счастья или спокойствия, но утрата свободы налицо, и было бы простым смешением ценностей утверждать, что хотя моя «либеральная» индивидуальная свобода выброшена за борт, некоторый другой вид свободы — «социальной» или «экономической» — возрос. Впрочем, это не отменяет того, что свободу одних временами нужно ограничивать, чтобы обеспечить свободу других. Руководствуясь каким принципом следует это делать? Если свобода представляет собой священную, неприкосновенную ценность, то такого принципа просто не существует. Одна из противоположных норм должна, по крайней мере, на практике, уступить: не всегда, правда, по соображениям, которые можно четко сформулировать, а тем более — обобщить в универсальных правилах и максимах. И тем не менее на практике компромисс должен быть достигнут.
Для философов, придерживающихся оптимистического взгляда на человеческую природу и верящих в возможность гармонизации человеческих интересов (в их число входят Локк, Адам Смит и, возможно, Милль), социальная гармония и прогресс не отменяют существование довольно большой сферы частной жизни, границы которой не могут быть нарушены ни государством, ни каким-либо другим органом власти. Гоббс и его сторонники, в особенности консервативные и реакционные мыслители, полагали, что нужно помешать людям уничтожать друг друга и превращать социальную жизнь в джунгли и пустыню; они предлагали предпринять меры предосторожности для сдерживания людей, а потому считали необходимым увеличить область централизованного контроля и, соответственно, уменьшить область, контролируемую индивидом. Однако и те и другие были согласны, что некоторая сфера человеческого существования не должна подвергаться социальному контролю. Вторжение в эту область, какой бы маленькой она ни была, есть деспотизм. Самый яркий защитник свободы и сферы частной жизни Бенжамен Констан, никогда не забывавший о якобинской диктатуре, призывал оградить от деспотического посягательства, по крайней мере, свободу веры, убеждений, самовыражения и собственности. Джефферсон, Берк, Пейн и Милль составили разные списки индивидуальных свобод, но сходным образом обосновывали необходимость держать власть на расстоянии. Мы должны сохранить хотя бы минимальную область личной свободы, если не хотим «отречься от нашей природы». Мы не можем быть абсолютно свободными и должны отказаться от части нашей свободы, чтобы сохранить оставшуюся часть. Полное подчинение чужой воле означает самоуничтожение. Какой же должна быть тогда минимальная свобода? Это та свобода, от которой человек не может отказаться, не идя против существа своей человеческой природы. Какова ее сущность? Какие нормы вытекают из нее? Эти вопросы были и, видимо, всегда будут предметом непрекращающегося спора. Но какой бы принцип ни очерчивал область невмешательства, будь то естественное право или права человека, принцип полезности или постулат категорического императива, неприкосновенность общественного договора или любое другое понятие, с помощью которого люди разъясняют и обосновывают свои убеждения, предполагаемая здесь свобода является свободой от чего-либо; она означает запрет вторжения далее некоторой перемещаемой, но всегда четко осознаваемой границы. «Только такая свобода и заслуживает названия свободы, когда мы можем совершенно свободно стремиться к достижению того, что считаем для себя благом», — говорил один из самых известных поборников свободы. Если это так, то есть ли какое-либо оправдание принуждению? Милль не сомневался, что есть. Все индивиды по справедливости имеют равное право на минимальную свободу, поэтому каждого из них нужно сдерживать, используя при необходимости силу, чтобы он не отнял свободу у другого индивида. По существу, вся функция закона и состоит в предотвращении именно таких столкновений: роль государства тем самым сводится к тому, что Лассаль пренебрежительно назвал функцией ночного сторожа или регулировщика уличного движения.
Почему защита индивидуальной свободы столь священна для Милля? В своем известном трактате он заявляет, что до тех пор, пока людям не будет разрешено вести тот образ жизни, какой они хотят и какой «касается только их самих», цивилизация не сможет развиваться; если не будет свободного обмена идеями, мы не сможем найти истину; не будет возможностей для развития самобытности, оригинальности, гениальности, умственной энергии и нравственного мужества. Общество будет задавлено тяжестью «массовой заурядности». Все разнообразное и богатое содержанием исчезнет под гнетом обычая и постоянной склонности людей к послушанию, которое рождает только «истощенных и бесплодных», «ограниченных и изуродованных» индивидов с «зачахшими способностями». «Языческое превознесение человека столь же достойно уважения, как и христианское самоотвержение». «Вред от ошибок, совершаемых человеком вопреки совету или предупреждению, значительно перевешивается злом, которое возникает, когда другим позволено принуждать человека делать то, что они считают для него благом». Защита свободы имеет «негативную» цель — предотвратить вмешательство. Угрожать человеку гонениями, если он не согласится жить так, чтобы другие выбирали за него цели; закрыть перед ним все двери, кроме одной, значит противоречить той истине, что человек — это существо, самостоятельно проживающее свою жизнь. И здесь не важно, насколько хороша перспектива, открываемая той единственной дверью, и насколько благородны мотивы тех, кто устанавливает ограничения. Именно так со времени Эразма (возможно, кто-то сказал бы — со времени Оккама) и по сей день понимают свободу либералы. Все требования гражданских свобод и индивидуальных прав, все протесты против эксплуатации и унижения, против посягательств со стороны государственной власти и массового гипноза, рождаемого обычаем или организованной пропагандой, проистекают из этой индивидуалистичной и вызывающей немало споров концепции человека.
Три момента следует отметить в связи с этой позицией. Во-первых, Милль смешивает два разных представления. Согласно первому из них, любое принуждение само по себе есть зло, ибо оно препятствует осуществлению человеческих желаний, но его можно использовать для предотвращения других, еще больших, зол. Невмешательство же, как нечто противоположное принуждению, само по себе есть благо, хотя и не единственное. Это представление выражает «негативную» концепцию свободы в ее классическом варианте. Согласно другому представлению, людям следует стремиться открывать истину и воспитывать в себе определенный, одобряемый Миллем, тип характера, сочетающий такие черты, как критичность, самобытность, богатое воображение, независимость, нежелание подчиняться, достигающее самых эксцентричных проявлений, и т. д. Открыть истину и воспитать такой характер можно только в условиях свободы. Оба эти представления являются либеральными, но они не тождественны, и связь между ними в лучшем случае эмпирическая. Никто не стал бы утверждать, что истина и свобода самовыражения могут процветать там, где мысль задавлена догмой. Но исторические факты свидетельствуют скорее о том (именно это и доказывал Джеймс Стефан, предпринявший впечатляющую атаку на Милля в своей книге «Свобода, Равенство, Братство» (’Liberty, Equality, Fraternity’), что честность, любовь к истине и пламенный индивидуализм процветают в сообществах со строгой и военной дисциплиной, как например, в общинах пуритан-кальвинистов в Шотландии и Новой Англии, уж во всяком случае не менее часто, чем в более терпимых и нейтральных обществах. Это разрушает аргумент Милля в пользу свободы как необходимого условия развития человеческой одаренности. Если эти две цели несовместимы друг с другом, то Милль оказывается перед лицом мучительной дилеммы еще до того, как возникнут трудности, вызванные несовместимостью его доктрины с последовательным утилитаризмом, даже гуманистически истолкованным самим Миллем.
Во-вторых, эта доктрина возникла сравнительно недавно. Античный мир едва ли знал индивидуальную свободу как осознанный политический идеал (в отличие от его действительного осуществления). Уже Кондорсе отмечал, что понятие индивидуальных прав отсутствовало в правовых представлениях римлян и греков; в равной мере это верно и в отношении иудейской, китайской и всех последующих древних цивилизаций. Торжество этого идеала было скорее исключением, а не правилом даже в недавней истории Запада. Свобода в таком ее истолковании нечасто становилась лозунгом, сплачивающим большие массы людей. Желание не подвергаться посягательствам и быть предоставленным самому себе свидетельствует скорее о том, что цивилизация достигла высокой ступени развития как в лице отдельных индивидов, так и общества в целом. Трактовка сферы частной жизни и личных отношений как чего-то священного в самом себе проистекает из концепции свободы, которая, если учесть ее религиозные корни, получила законченное выражение лишь с наступлением эпохи Возрождения или Реформации. Однако упадок этой свободы означал бы смерть цивилизации и всего нравственного мировоззрения.
Третья особенность этого понятия свободы наиболее важна. Она состоит в том, что свобода в таком ее понимании совместима с некоторыми формами самодержавия или, во всяком случае, совместима с отсутствием самоуправления. Свобода в этом смысле имеет принципиальную связь со сферой управления, а не с его источником. На деле, демократия может лишить гражданина огромного числа свобод, которыми он пользуется при других формах правления, и, кроме того, можно легко представить себе либерально настроенного деспота, который предоставляет своим подданным широкую личную свободу. Оставляя своим гражданам большую область свободы, деспот, вместе с тем, может быть несправедливым, поощрять крайние формы неравенства, мало заботиться о порядке, добродетели и развитии знания, но если учесть, что он не ограничивает свободу граждан или, во всяком случае, делает это в меньшей степени, чем правители при многих других режимах, он удовлетворяет определению Милля. Свобода в этом смысле не связана, по крайней мере логически, с демократией и самоуправлением. В общем, самоуправление может обеспечивать лучшие гарантии соблюдения гражданских свобод, чем другие режимы, и поэтому в его поддержку выступали многие либертарианцы. Но между индивидуальной свободой и демократическим правлением нет необходимой связи. Ответ на вопрос «Кто управляет мной?» логически не связан с вопросом «Как сильно правительство ограничивает меня?». Именно это, в конечном счете, и обнаруживает глубокое различие между понятиями негативной и позитивной свободы. Позитивная трактовка свободы вступает в свои права, когда мы пытаемся ответить на вопросы «Кто управляет мною?» и «Кто должен сказать, что мне следует или не следует делать и кем мне следует или не следует быть?», а не когда мы задаемся вопросом «Что я свободен делать и кем я свободен быть?», поэтому связь между демократией и индивидуальной свободой значительно более слабая, чем это полагают многие защитники той и другой. Желание управлять собой или, по крайней мере, участвовать в процессе управления своей жизнью может быть столь же глубоким, как и желание иметь свободную область действия, а исторически, возможно, и более древним. Но в этих случаях мы желаем не одного и того же. На деле, предметы желания здесь совершенно разные, и именно это обстоятельство привело к великому столкновению идеологий, подчинивших своей власти наш мир. «Позитивная» концепция свободы предполагает не свободу «от», а свободу «для» — свободу вести какой-то предписанный образ жизни, поэтому для сторонников «негативной» свободы она порой оказывается лишь лицемерной маской жестокой тирании.
II
Понятие позитивной свободы
«Позитивное» значение слова «свобода» проистекает из желания индивида быть хозяином своей собственной жизни. Я хочу, чтобы моя жизнь и принимаемые мной решения зависели от меня, а не от действия каких-либо внешних сил. Я хочу быть орудием своего собственного волеизъявления, а не волеизъявления других людей. Я хочу быть субъектом, а не объектом; хочу, чтобы мной двигали мои собственные мотивы и осознанно поставленные цели, а не причины, воздействующие на меня извне. Я хочу быть кем-то: хочу быть деятелем, принимающим решения, и не хочу быть тем, за кого решают другие; я хочу сам собой руководить и не хочу подчиняться воздействию внешней природы или других людей, как если бы я был вещью, животным или рабом, не способным к человеческой деятельности: не способным ставить перед собой цели, намечать линии поведения и осуществлять их. Именно это я имею в виду, по крайней мере отчасти, когда говорю, что я рациональное существо и мой разум отличает меня как человека от всего остального мира. Прежде всего я хочу воспринимать себя мыслящим, волевым, активным существом, несущим ответственность за сделанный выбор и способным оправдать его ссылкой на свои собственные убеждения и цели. Я чувствую себя свободным в той мере, в какой осознаю, что я таков, и порабощенным — в той мере, в какой я вынужден признать, что я не таков.
Свобода быть хозяином своей собственной жизни, и свобода от препятствий, чинимых другими людьми моему выбору, на первый взгляд, могут показаться не столь уж логически оторванными друг от друга — не более, чем утвердительный и отрицательный способ выражения одной и той же мысли. Однако «позитивное» и «негативное» понятия свободы исторически развивались в расходящихся направлениях и не всегда логически правильными шагами, пока в конце концов не пришли в прямое столкновение друг с другом.
При объяснении этой ситуации порой ссылаются на ту силу, которую приобрела совершенно безобидная вначале метафора владения собой. «Я свой собственный хозяин», «я никому не раб», но разве я не могу быть (как склонны рассуждать платоники и гегельянцы) рабом природы? Или рабом своих собственных неукротимых страстей? Разве это не разные виды одного и того же родового понятия «раб» — одни политические и правовые, другие — нравственные и духовные? Разве у людей нет опыта освобождения себя от духовного рабства и от рабской покорности природе, и разве в ходе такого освобождения люди не открывали в себе, с одной стороны, некоторое главенствующее Я, а с другой стороны, нечто такое, что подчиняется этому Я. Это главенствующее Я затем различными способами отождествляют с разумом, с «высшей природой» человека, с его «реальным», «идеальным» или «автономным» Я, с тем Я, которое стремится к вещам, дающим длительное удовлетворение, с «наилучшим» Я, а затем это Я противопоставляют иррациональным влечениям, неконтролируемым желаниям, «низкой» природе человека, его погоне за сиюминутными удовольствиями, его «эмпирическому» или «гетерономному» Я, которое поддается каждому порыву желания и страсти и нуждается в строгой дисциплине, чтобы встать в полный рост своей «реальной» природы. В настоящее время эти два Я разделены, так сказать, еще большей пропастью: реальное Я воспринимается как нечто более широкое, чем сам индивид (в обычном понимании этого слова), как некое социальное «целое» — будь то племя, раса, церковь, государство или великое сообщество всех живущих, умерших и еще не рожденных, в которое индивид включается в качестве элемента или аспекта. Затем это существо отождествляют с «истинным» Я, и оно, навязывая единую коллективную или «органическую» волю своим непокорным членам, достигает собственной свободы, которая, таким образом, оказывается и «высшей» свободой его членов. Опасность использования различных органических метафор, оправдывающих принуждение тем, что оно поднимает людей на «более высокий» уровень свободы, отмечалась неоднократно. Таким оборотам речи придает убедительность то, что мы считаем возможным, а иногда и оправданным, принуждать людей ради достижения некоторой цели (скажем, ради справедливости и общественного процветания), к которой они стремились бы, будь более просвещенными, но не делают этого в силу своей слепоты, невежественности и порочности. Благодаря этому мне легче считать, что я принуждаю других людей ради них самих, ради их собственных, а не моих интересов. Затем я заявляю, что лучше их самих знаю их действительные нужды. В лучшем случае отсюда следует, что они не стали бы сопротивляться моему принуждению, будь они столь же рациональны и мудры, как я, и понимай они столь же хорошо свои интересы, как понимаю их я. Но я могу утверждать и значительно большее. Я могу заявить, что в действительности они стремятся к тому, чему оказывают сознательное сопротивление из-за своего невежества, ибо внутри их заключена некая скрытая сущность — их непроявленная рациональная воля или «истинная» цель, и эта сущность, хотя ее опровергает все, что они чувствуют, делают и о чем открыто говорят, является их «настоящим» Я, о котором их бедное эмпирическое Я, существующее в пространстве и времени, может ничего не знать или знать очень мало. Именно этот внутренний дух и есть то единственное Я, которое заслуживает, чтобы его желания были приняты во внимание. Заняв такую позицию, я могу игнорировать реальные желания людей и сообществ, могу запугивать, притеснять, истязать их во имя и от лица их «подлинных» Я в непоколебимой уверенности, что какова бы ни была истинная цель человека (счастье, исполнение долга, мудрость, справедливое общество, самореализация), она тождественна его свободе — свободному выбору его «истинного», хотя и часто отодвигаемого на второй план и не проявляющегося, Я.
Этот парадокс разоблачали не раз. Одно дело говорить, что я знаю, в чем состоит благо для Х (хотя сам он может этого и не знать), и можно даже игнорировать желания Х ради этого блага и ради него самого, но совсем другое дело говорить, что ео ipso он выбрал это благо, по существу неосознанно, — выбрал не как человек из повседневной жизни, а как некое рациональное Я, о котором его эмпирическое Я может и не знать, выбрал как некое «подлинное» Я, которое способно осознать свое благо и не может не выбрать его, когда оно установлено. Эта чудовищная персонификация, когда то, что Х выбрал бы, будь он тем, кем он не является, или, по крайней мере, еще не стал, приравнивается к тому, чего Х действительно добивается и что действительно выбирает, образует сердцевину всех политических теорий самореализации. Одно дело говорить, что меня можно заставить ради моего же собственного блага, которого я не понимаю из-за своей слепоты; иногда это оказывается полезным для меня и действительно увеличивает мою свободу. Но совсем другое дело говорить, что если это мое благо, то меня, по существу, и не принуждают, поскольку мне — знаю я это или нет — следует желать его. Я свободен (или «подлинно» свободен), даже если мое бедное земное тело и мое глупое сознание решительно отвергают это благо и безрассудно сопротивляются тем, кто старается, пусть из добрых побуждений, навязать его мне.
Это магическое превращение (или ловкость рук, за которую Уильям Джеймс совершенно справедливо высмеивал гегельянцев), безусловно, можно с такой же легкостью проделать и с «негативным» понятием свободы. В этом случае Я, которому не должно строить препятствия, из индивида с его реальными желаниями и нуждами в их обычном понимании сразу вырастает в некоего «подлинного» человека, отождествляемого со стремлением к идеальной цели, о которой его эмпирическое Я даже и не мечтало. По аналогии с Я, свободным в позитивном смысле, этот «подлинный» человек мгновенно раздувается в некую сверхличностную сущность: государство, класс, нацию или даже ход истории, — которые воспринимаются как более «реальные» носители человеческих качеств, чем эмпирическое Я. Однако, с точки зрения истории, теории и практики «позитивная» концепция свободы как самовладения, с ее предпосылкой о внутренней раздвоенности человека, легче осуществляет расщепление личности на две части: на трансцендентного господина и эмпирический пучок желаний и страстей, который нужно держать в строгой узде. Именно это обстоятельство и сыграло главную роль. Это доказывает (если, конечно, требуется доказательство столь очевидной истины), что концепция свободы непосредственно вытекает из представлений о том, что определяет личность человека, его Я. С определением человека и свободы можно проделать множество манипуляций, чтобы получить то значение, которое желательно манипулятору. Недавняя история со всей очевидностью показала, что этот вопрос отнюдь не является чисто академическим.
Последствия различения двух Я станут еще более очевидными, если рассмотреть, в каких двух основных исторических формах проявлялось желание быть управляемым своим «подлинным» Я. Первая форма — это самоотречение ради достижения независимости, а вторая — самореализация или полное отождествление себя с некоторым конкретным принципом или идеалом ради достижения той же цели.
<…>
VII
Свобода и суверенность Французская революция, во всяком случае в ее якобинской форме, подобно всем великим революциям, была именно таким всплеском жажды позитивной свободы, охватившей большое число французов, которые ощутили себя освобожденной нацией, хотя для многих из них она означала жесткое ограничение индивидуальных свобод. Руссо торжествующе заявлял, что законы свободы могут оказаться более жестокими, чем ярмо тирании. Тирания — служанка господ. Закон не может быть тираном. Когда Руссо говорит о свободе, он имеет в виду не «негативную» свободу индивида не подвергаться вмешательству в рамках определенной области; он имеет в виду то, что все без исключения полноправные члены общества участвуют в осуществлении государственной власти, которая может вмешиваться в любой аспект жизни каждого гражданина. Либералы первой половины девятнадцатого века правильно предвидели, что свобода в «позитивном» смысле может легко подорвать многие из «негативных» свобод, которые они считали неприкосновенными. Они говорили, что суверенность народа способна легко уничтожить суверенность индивида. Милль терпеливо и неопровержимо доказывал, что правление народа — это не обязательно свобода. Ибо те кто правит, необязательно те же люди, которыми правят, поэтому демократическое самоуправление — это режим, при котором не каждый управляет собой, а в лучшем случае каждым управляют остальные. Милль и его ученики говорили о тирании большинства и тирании «преобладающего настроения или мнения» и не видели большой разницы между этими видами тирании и любым другим, посягающим на свободу человеческой деятельности внутри неприкосновенных границ частной жизни.
Никто не осознавал конфликта между двумя видами свободы так хорошо и не выразил его так четко, как Бенжамен Констан. Он отмечал, что когда неограниченная власть, обычно называемая суверенитетом, в результате успешного восстания переходит из одних рук в другие, это не увеличивает свободы, а лишь перекладывает бремя рабства на другие плечи. Он вполне резонно задавал вопрос, почему человека должно заботить, что именно подавляет его — народное правительство, монарх или деспотические законы. Констан прекрасно осознавал, что для сторонников «негативной» индивидуальной свободы основная проблема заключается не в том, у кого находится власть, а в том, как много этой власти сосредоточено в одних руках. По его мнению, неограниченная власть в каких угодно руках рано или поздно приведет к уничтожению кого-либо. Обычно люди протестуют против деспотизма тех или иных правителей, но реальная причина тирании, согласно Констану, заключена в простой концентрации власти, при каких бы обстоятельствах она ни происходила, поскольку свободе угрожает само существование абсолютной власти как таковой. «Это не рука является несправедливой, — писал он, -а орудие слишком тяжело — некоторые ноши слишком тяжелы для человеческой руки». Демократия, сумевшая одержать верх над олигархией, привилегированным индивидом или группой индивидов, может в дальнейшем подавлять людей столь же нещадно, как и предшествовавшие ей правители. В работе, посвященной сравнению современной свободы и свободы древних, Констан отмечал, что равное для всех право угнетать — или вмешиваться — не эквивалентно свободе. Даже единодушный отказ от свободы не сохраняет ее каким-то чудесным образом — на том только основании, что было дано согласие и согласие было общим. Если я согласен терпеть гнет и с полным безразличием или иронией смотрю на свое положение, то разве я менее угнетен? Если я сам продаю себя в рабство, то разве я в меньшей степени раб? Если я совершаю самоубийство, то разве я в меньшей степени мертв — на том только основании, что я покончил с жизнью добровольно? «Правление народа — это неупорядоченная тирания; монархия же — более эффективный централизованный деспотизм». Констан видел в Руссо самого опасного врага индивидуальной свободы, ибо тот объявил, что «отдавая себя всем, я не отдаю себя никому». Даже если суверен — это «каждый» из нас, для Констана было не понятно, почему этот суверен не может при желании угнетать одного из «тех», кто составляет его неделимое Я. Конечно, для меня может быть предпочтительней, чтобы свободы были отняты у меня собранием, семьей или классом, в которых я составляю меньшинство. Быть может, в этом случае мне удастся убедить других сделать для меня то, на что я, с моей точки зрения, имею право. Однако, лишаясь свободы от руки членов своей семьи, друзей или сограждан, я все равно в полной мере лишаюсь ее. Гоббс, по крайней мере, был более откровенным; он не пытался представить дело так, будто суверен не порабощает. Он оправдывал это рабство, но во всяком случае не имел бесстыдства называть его свободой.
На протяжении всего девятнадцатого столетия либеральные мыслители не уставали доказывать, что если свобода означает ограничение возможностей, которыми располагают другие люди, чтобы заставить меня делать то, чего я не хочу или могу не хотеть, то каким бы ни был идеал, ради которого меня принуждают, я являюсь несвободным, и поэтому доктрина абсолютного суверенитета по своей сути носит тиранический характер. Для сохранения нашей свободы недостаточно провозгласить, что ее нельзя нарушить, если только это нарушение не будет санкционировано тем или иным самодержавным правителем, народным собранием, королем в парламенте, судьями, некоторым союзом властей или законами, поскольку и законы могут быть деспотичными. Для этого нам необходимо создать общество, признающее область свободы, границы которой никому не дано нарушать. Нормы, устанавливающие эти границы, могут иметь разные названия и характер: их можно называть правами человека, Словом Господним, естественным правом, соображениями полезности или «неизменными интересами человека». Я могу считать их истинными априорно или могу провозглашать их своей высшей целью или высшей целью моего общества и культуры. Общим для этих норм и заповедей является то, что они получили столь широкое признание и столь глубоко укоренились в действительной природе людей в ходе исторического развития общества, что к настоящему моменту они составляют существенную часть нашего представления о человеке. Искренняя вера в незыблемость некоторого минимума индивидуальной свободы требует бескомпромиссной позиции в этом вопросе. Сейчас уже ясно, как мало надежд оставляет правление большинства; демократия, как таковая, не имеет логической связи с признанием свободы, и порой, стремясь сохранить верность собственным принципам, она оказывалась неспособной защитить свободу. Как известно, многим правительствам не составило большого труда заставить своих подданных выражать волю, желательную для данного правительства. «Триумф деспотизма состоит в том, чтобы заставить рабов объявить себя свободными». Сила здесь может и не понадобиться; рабы совершенно искренне могут заявлять о своей свободе, оставаясь при этом рабами. Возможно, для либералов главное значение политических — или «позитивных» прав, как, например, права участвовать в государственном управлении, — состоит в том, что эти права позволяют защитить высшую для либералов ценность — индивидуальную «негативную» свободу.
Но если демократии могут, не переставая быть демократиями, подавлять свободу, по крайней мере, в либеральном значении этого слова, то что сделает общество по-настоящему свободным? Для Констана, Милля, Токвиля и всей либеральной традиции, к которой они принадлежали, общество не свободно, пока управление в нем не осуществляется на основе, как минимум, следующих двух взаимосвязанных принципов. Во-первых, абсолютными следует считать только права людей, власть же таковой не является, а потому, какая бы власть ни стояла над людьми, они имеют полное право отказаться вести себя не достойным человека образом. Во-вторых, должна существовать область, в границах которой люди неприкосновенны, причем эти границы устанавливаются не произвольным образом, а в соответствии с нормами, получившими столь широкое и проверенное временем признание, что их соблюдения требуют наши представления о нормальном человеке и о том, что значит действовать неразумным или недостойным человека образом. Например, нелепо считать, что суд или верховный орган власти мог бы отменить эти нормы, прибегнув к некоторой формальной процедуре. Определяя человека как нормального, я отчасти имею в виду и то, что он не мог бы с легкостью нарушить эти нормы, не испытывая при этом чувства отвращения. Именно такие нормы нарушаются, когда человека без суда объявляют виновным или наказывают по закону, не имеющему обратной силы; когда детям приказывают доносить на своих родителей, друзьям — предавать друг друга, а солдатам — прибегать к варварским методам ведения войны; когда людей пытают и убивают, а меньшинства уничтожают только потому, что они вызывают раздражение у большинства или у тирана. Подобные действия, объявляемые сувереном законными, вызывают ужас даже в наши дни, и это объясняется тем, что независимо от существующих законов для нас имеют абсолютную моральную силу барьеры, не позволяющие навязывать свою волю другому человеку. Свобода общества, класса или группы, истолкованная в негативном смысле, измеряется прочностью этих барьеров, а также количеством и важностью путей, которые они оставляют открытыми для своих членов, если не для всех, то во всяком случае для огромного их большинства.
Это прямо противостоит целям тех, кто верит в свободу в «позитивном» смысле самоуправления. Первые хотят обуздать власть, вторые — получить ее в собственные руки. Это кардинальный вопрос. Здесь не просто две разные интерпретации одного понятия, а два в корне различных и непримиримых представления о целях жизни. Это нужно хорошо осознавать, даже если на практике часто приходится искать для них компромисс. Каждая из этих позиций выдвигает абсолютные требования, которые нельзя удовлетворить полностью. Но в социальном и моральном плане было бы полным непониманием не признавать, что каждая их этих позиций стремится претворить в жизнь высшую ценность, которая и с исторической, и с моральной точки зрения достойна быть причисленной к важнейшим интересам человечества.
VIII
Один и многие
Есть одно убеждение, которое более всех остальных ответственно за массовые человеческие жертвы, принесенные на алтарь великих исторических идеалов: справедливости, прогресса, счастья будущих поколений, священной миссии освобождения народа, расы или класса и даже самой свободы, когда она требует пожертвовать отдельными людьми ради свободы общества. Согласно этому убеждению, где-то — в прошлом или будущем, в Божественном Откровении или в голове отдельного мыслителя, в достижениях науки и истории или в бесхитростном сердце неиспорченного доброго человека — существует окончательное решение. Эту древнюю веру питает убеждение в том, что все позитивные ценности людей в конечном счете обязательно совместимы друг с другом и, возможно, даже следуют друг из друга. «Природа словно связывает истину, счастье и добродетель неразрывной цепью», — говорил один из лучших людей, когда-либо живших на земле, и в сходных выражениях он высказывался о свободе, равенстве и справедливости. Но верно ли это? Уже стало банальным считать, что политическое равенство, эффективная общественная организация и социальная справедливость, если и совместимы, то лишь с небольшой крупицей индивидуальной свободы, но никак не с неограниченным laissez-faire; справедливость, благородство, верность в публичных и частных делах, запросы человеческого гения и нужды общества могут резко противоречить друг другу. Отсюда недалеко и до обобщения, что отнюдь не все блага совместимы друг с другом, а менее всего совместимы идеалы человечества. Нам могут возразить, что где-то и как-то эти ценности должны существовать вместе, ибо в противном случае Вселенная не может быть Космосом, не может быть гармонией; в противном случае конфликт ценностей составляет внутренний, неустранимый элемент человеческой жизни. Если осуществление одних наших идеалов может, в принципе, сделать невозможным осуществление других, то это означает, что понятие полной самореализации человека есть формальное противоречие, метафизическая химера. Для всех рационалистов-метафизиков от Платона до последних учеников Гегеля и Маркса отказ от понятия окончательной гармонии, дающей разгадку всем тайнам и примиряющей все противоречия, означал грубый эмпиризм, отступление перед жесткостью фактов, недопустимое поражение разума перед реальностью вещей, неспособность объяснить, оправдать, свести все к системе, что «разум» с возмущением отвергает. Но поскольку нам не дана априорная гарантия того, что возможна полная гармония истинных ценностей, достижимая, видимо, в некоторой идеальной сфере и недоступная нам в нашем конечном состоянии, мы должны полагаться на обычные средства эмпирического наблюдения и обычное человеческое познание. А они, разумеется, не дают нам оснований утверждать (или даже понимать смысл утверждения), что все блага совместимы друг с другом, как совместимы в силу тех же причин и все дурные вещи. В мире, с которым мы сталкиваемся в нашем повседневном опыте, мы должны выбирать между одинаково важными целями и одинаково настоятельными требованиями, и, достигая одних целей, мы неизбежно жертвуем другими. Именно поэтому люди придают столь огромную ценность свободе выбора: будь они уверены, что на земле достижимо некоторое совершенное состояние, когда цели людей не будут противоречить друг другу, то для них исчезла бы необходимость мучительного выбора, а вместе с ней и кардинальная важность свободы выбора. Любой способ приблизить это совершенное состояние был бы тогда полностью оправдан, и не важно, сколько свободы пришлось бы принести в жертву ради приближения этого состояния. Не сомневаюсь, что именно такая догматичная вера ответственна за глубокую, безмятежную, непоколебимую убежденность самых безжалостных тиранов и гонителей в истории человечества в том, что совершаемое ими полностью оправдывается их целью. Я не призываю осудить идеал самосовершенствования, как таковой, — не важно, говорим мы об отдельных людях, или о народах, религиях и классах, — и не утверждаю, что риторика, к которой прибегали в его защиту, всегда была мошенническим способом ввести в заблуждение и неизменно свидетельствовала о нравственной и интеллектуальной порочности. На самом деле, я старался показать, что понятие свободы в ее «позитивном» значении образует сердцевину всех лозунгов национального и общественного самоуправления, вдохновлявших наиболее мощные движения современности в их борьбе за справедливость; не признавать этого — значит не понимать самые важные факты и идеи нашего времени. Однако в равной мере я считаю безусловно ошибочной веру в принципиальную возможность единой формулы, позволяющей привести в гармонию все разнообразные цепи людей. Эти цели очень различны и не все из них можно, в принципе, примирить друг с другом, поэтому возможность конфликта, а, стало быть, и трагедии, никогда полностью не устранима из человеческой жизни, как личной, так и общественной. Необходимость выбирать между абсолютными требованиями служит, таким образом, неизбежным признаком человеческих условий существования. Это придает ценность свободе, которая, как считал Актон, есть цель-в-себе, а не временная потребность, вырастающая из наших нечетких представлений и неразумной, неупорядоченной жизни; свобода — это не затруднение, преодолеваемое в будущем с помощью какой-либо панацеи.
Я не хочу сказать, что индивидуальная свобода в наиболее либеральных обществах служит единственным или главным критерием выбора. Мы заставляем детей получать образование и запрещаем публичные казни. Это, конечно, ограничивает свободу. Мы оправдывает это ограничение, ибо неграмотность, варварское воспитание, жестокие удовольствия и чувства хуже для нас, чем ограничение, необходимое для их исправления и подавления. Эта позиция опирается на наше понимание добра и зла, на наши, так сказать, моральные, религиозные, интеллектуальные, экономические и эстетические ценности, которые в свою очередь связаны с нашими представлениями о человеке и основных потребностях его природы, Другими словами, в решении таких проблем мы осознанно или неосознанно руководствуемся своим пониманием того, из чего складывается жизнь нормального человека в противоположность существованию миллевских «ограниченных и изуродованных», «истощенных и бесплодных» натур. Протестуя против цензуры и законов, устанавливающих контроль над личным поведением, видя в них недопустимые нарушения свободы личности, мы исходим из того, что запрещаемые этими законами действия отражают фундаментальные потребности людей в хорошем (а фактически, в любом) обществе. Защищать подобные законы — значит считать, что данные потребности несущественны или что не существует иного способа их удовлетворения, как путем отказа от других, высших ценностей, выражающих более глубокие потребности, чем индивидуальная свобода. Считается, что используемый здесь критерий оценки ценностей имеет не субъективный, а, якобы, объективный — эмпирический или априорный — статус.
Определяя, в какой мере человек или народ может пользоваться свободой при выборе образа жизни, следует учитывать многие другие ценности, из которых наиболее известные, видимо, — равенство, справедливость, счастье, безопасность и общественный порядок. Стало быть, свобода не может быть неограниченной. Как справедливо напоминает нам Р. X. Тони, свобода сильных, какой бы ни была их сила — физической или экономической, должна быть ограничена. Содержащееся в этой максиме требование уважения — это не следствие, вытекающее из некоторого априорного правила, гласящего, например, что уважение к свободе одного человека логически влечет за собой уважение к свободе других людей; это требование обусловлено тем, что уважение к принципам справедливости и чувство стыда за вопиющее неравенство среди людей столь же существенны для человека, как и желание свободы. Тот факт, что мы не можем иметь все, — это не случайная, а необходимая истина. Когда Берк напоминает о постоянной необходимости возмещать, примирять и уравновешивать; когда Милль ссылается на «новые эксперименты в жизни» с их неизбежными ошибками; когда мы осознаем принципиальную невозможность получить четкие и определенные ответы не только на практике, но и в теории с ее идеальным миром совершенно добрых и рациональных людей и абсолютно ясных идей, это может вызвать раздражение у тех, кто ищет окончательных решений и единых, всеобъемлющих и вечных систем. Но именно этот вывод неизбежен для тех, кто вместе с Кантом хорошо усвоил ту истину, что из искривленного ствола человечества никогда не было изготовлено ни одной прямой вещи.
Излишне напоминать, что монизм и вера в единый критерий всегда были источником глубокого интеллектуального и эмоционального удовлетворения. Неважно, выводится ли критерий оценки из того, как видится будущее совершенное состояние философам восемнадцатого столетия и их технократическим последователям в наши дни, или он коренится в прошлом — /a terre et les morts, — как полагают немецкие историцисты, французские теократы и неоконсерваторы в англоязычных странах, но он обязательно, в силу своей негибкости, натолкнется на некоторый непредвиденный ход человеческой истории, который не будет с ним согласовываться. И тогда этот критерий можно будет использовать для оправдания прокрустовых жестокостей — вивисекции реально существующих человеческих обществ в соответствии с установленным образцом, который диктуется нашими, подверженными ошибкам представлениями о прошлом или будущем, а они, как известно, во многом, если не полностью, — плод нашего воображения. Стремясь сохранять абсолютные категории и идеалы ценой человеческих жизней, мы в равной мере подрываем принципы, выработанные наукой и выкованные историей; в наши дни приверженцев такой позиции можно встретить и среди левых, и среди правых, но она неприемлема для тех, кто уважает факты.
Для меня плюрализм с его требованием определенной доли «негативной» свободы — более истинный и более человечный идеал, чем цепи тех, кто пытается найти в великих авторитарных и подчиненных строгой дисциплине обществах идеал «позитивного» самоосуществления для классов, народов и всего человечества. Он более истинен хотя бы потому, что признает разнообразие человеческих цепей, многие из которых несоизмеримы друг с другом и находятся в вечном соперничестве. Допуская, что все ценности можно ранжировать по одной шкале, мы опровергаем, на мой взгляд, наше представление о людях как свободных агентах действия и видим в моральном решении действие, которое, в принципе, можно выполнить с помощью логарифмической линейки. Утверждать, что в высшем, всеохватывающем и тем не менее достижимом синтезе долг есть интерес, а индивидуальная свобода есть чистая демократия или авторитарное государство, — значит скрывать под метафизическим покровом самообман или сознательное лицемерие. Плюрализм более человечен, ибо не отнимает у людей (как это делают создатели систем) ради далекого и внутренне противоречивого идеала многое из того, что они считают абсолютно необходимым для своей жизни, будучи существами, способными изменяться самым непредсказуемым образом. В конечном счете люди делают свой выбор между высшими ценностями так, как они могут, ибо фундаментальные категории и принципы морали определяют их жизнь и мышление и составляют — по крайней мере, в долгой пространственно-временной перспективе — часть их бытия, мышления и личностной индивидуальности — всего того, что делает их людьми.
Быть может, идеал свободного выбора целей, не претендующих на вечность, и связанный с ним плюрализм ценностей — это лишь поздние плоды нашей угасающей капиталистической цивилизации: этот идеал не признавали примитивные общества древности, а у последующих поколений он, возможно, встретит любопытство и симпатию, но не найдет понимания. Быть может, это так, но отсюда, мне кажется, не следует никаких скептических выводов. Принципы не становятся менее священными, если нельзя гарантировать их вечного существования. В действительности, желание подкрепить свою веру в то, что в некотором объективном царстве наши ценности вечны и непоколебимы, говорит лишь о тоске по детству с его определенностью и по абсолютным ценностям нашего первобытного прошлого. «Осознавать относительную истинность своих убеждений, — говорил замечательный писатель нашего времени, — и все же непоколебимо их держаться — вот что отличает цивилизованного человека от дикаря». Возможно, требовать большего — глубокая и неустранимая метафизическая потребность, но позволять ей направлять наши действия, — симптом не менее глубокой, но куда более опасной нравственной и политической незрелости.
И. Берлин. Две концепции свободы // Современный либерализм. М., 1998. С. 19-43.
Источник: Библиотека Якова Кротова
Свобода и свобода воли | Наука 2.0
Несмотря на бойкую манеру, с которой люди призывают к идее свободы. Свобода — пугающее понятие. Способность делать абсолютно все, что угодно, просто ошеломляет.Конечно, на практике мы понимаем под свободой не это. Вместо этого мы немедленно начинаем вводить ограничения, чтобы это не было просто хаосом. Конечно, мы не можем вести себя так, как если бы это выходило за рамки наших физических тел. Мы просто не можем заставить себя летать.Мы не можем просто задерживать дыхание на неопределенное время. Итак, есть некоторые очевидные границы, с которыми сталкивается каждое существо, рассматривая свою «свободу».
Это приводит нас в большее соответствие с концепцией механики, которая определяет «степеней свободы» , которыми обладает объект. Другими словами, он описывает возможные пути движения, которые он может выбрать, исходя из ограниченности его архитектуры или дизайна.
Точно так же у нас есть степени свободы, которые ограничивают то, что мы действительно можем испытать или сделать.В социальной среде эти степени свободы дополнительно ограничиваются, чтобы способствовать сосуществованию между членами и минимизировать вторжение «свободы» одного человека в свободу другого. Хотя мы склонны гордиться созданием свободных обществ, по правде говоря, мы желаем не столько свободы, сколько порядка и предсказуемости. Казалось бы, представление о свободе среднего человека — это просто желание, чтобы его «оставили в покое» потенциально навязчивые внешние силы (например, правительство, бизнес и т. Д.).). Другими словами, желание остаться в покое фокусируется на тех сущностях, которые занимают наиболее влиятельные позиции, чтобы еще больше ограничить возможные степени свободы.
Если пойти дальше, может показаться, что одним из самых больших препятствий на пути к свободе являются наши собственные запреты. Это подводит нас ко второму вопросу; свободная воля.
Свобода воли подчиняется тем же ограничениям «степеней свободы», что и наша физическая свобода, однако это более сложный предмет, потому что у нас есть очевидная способность принимать решения по любой абстракции, которую мы можем вообразить.Наш мозг борется с такими понятиями, как бесконечность, как если бы они обладали физической реальностью. В этом заключается первая трудность, а именно степень, в которой наше воображение ограничено в предоставлении полного диапазона «свободной» мысли. Как отличить новую творческую мысль от тысяч и миллионов идей, которым мы подвергаемся благодаря нашему образованию и влиянию общества? Действительно ли мы думаем свободно или на нас просто влияют другие точки зрения, совпадающие с убеждениями, которые мы уже принимаем?
Как я упоминал в других сообщениях, система убеждений представляет собой механизм организации данных мозга, так что концепции могут быть включены или исключены на основе структуры, которая определяет мировоззрение.Следовательно, одним из ограничений свободы воли является то, что она должна вписываться в наши существующие рамки, чтобы даже рассматриваться как возможность.
Этот конкретный аспект функции мозга и организации данных особенно распространен, потому что он определяет возможные результаты, которые мы принимаем на основе используемой нами системы убеждений. Это наиболее ярко демонстрируется различными методами принуждения, пропаганды и «промывания мозгов», которые могут применяться, что подрывает систему убеждений мозга и способность различать наши мысли.Эти методы специально используются, чтобы направить «свободную волю» человека в определенные направления. Подобно идее гипнотических внушений, это ясно показывает, что мозг может быть управляемым для выполнения очень специфических и целенаправленных действий.
В таком случае мы должны учитывать, что мозг ВСЕГДА каким-то образом управлялся, и что эти методы просто перенаправляют (или перепрограммируют) мозг в соответствии с тем, кто хочет оказать влияние. Но кажется неправдоподобным, что такие мысли и процесс принятия решений можно было бы перенаправить, если бы они еще не были структурированы таким образом с самого начала.
Как и в случае с гипнотическими внушениями, были восстановлены ложные воспоминания, что наглядно демонстрирует, как наши механизмы сбора и фильтрации данных могут быть скомпрометированы. Кроме того, было сказано, что загипнотизированного субъекта нельзя заставить действовать таким образом, который противоречит его строгим моральным ценностям, но кажется, что даже это немного преувеличено, поскольку контекст будет определяющим фактором того, насколько успешным такая попытка была.
В целом, нет никаких сомнений в том, что наш разум имеет значительное количество «степеней свободы», которые будут определяться нашим мозгом, опытом, знаниями и системами убеждений.Это создает среду, в которой могут собраться буквально миллионы возможных мыслей. Однако возможности ограничены теми же ограничениями, которые определяют нас как социальных существ со всеми сопутствующими запретами и запретами.
Итак, насколько «свободна» наша способность мыслить? Можем ли мы когда-нибудь быть уверены, что наша вера в свободную волю — это не просто продукт наших убеждений, переданных нам другими? Как мы могли когда-либо определить, что конкретное решение было действительно «бесплатным», а не составным из всего, чем мы являемся ментально? Является ли мое решение написать эту запись в блоге продуктом «свободной воли» или это просто прямое предсказуемое следствие того, кому мне предоставлена возможность для такого выражения?
Именно по этой причине я пришел к выводу, что «свобода воли» полностью относится к сфере философии, потому что не существует объективного способа определить ее существование или установить диапазон ее функционирования.Я считаю, что у нас есть свобода воли до такой степени, что мы можем действовать в рамках параметров мировоззрения нашего разума, но мы не можем легко выйти за пределы этого царства.
Свобода воли — Введение в философию: философия разума
Даниэль Хаас
Введение: мы свободны?
Насколько люди контролируют то, кем они являются и что они делают? Предположим, ночь перед экзаменом, и Куинн должна учиться, но ее соседка по комнате просит ее выйти с ней и несколькими друзьями.Конечно, кажется, что это зависит от Куинн, что она делает. Она могла оставаться дома и учиться, или могла провести ночь с друзьями. Выбор, кажется, за ней и за ней. И когда на следующее утро Куинн приходит на экзамен в изнеможении, Куинн должна чувствовать себя вправе обвинять себя в невыполнении того, что она должна была сделать, и того, что она могла сделать.
Или предположим, что вы взвешиваете все «за» и «против» между карьерой в чем-то с разумной отдачей от инвестиций, например, в медсестре или бухгалтерском учете, и карьерой в области с более сомнительными карьерными перспективами, например в философии.Опять же, выбор, кажется, за вами. Вы можете выбрать любой карьерный путь, какой захотите, и, в конечном счете, вам решать, что вы решите делать со своей жизнью. Правильно?
Но, возможно, это чувство свободы — всего лишь иллюзия. Возможно, решение Куинн пойти куда-нибудь со своими друзьями в ночь перед экзаменом является неизбежным детерминированным следствием прошлого и законов природы, которое подрывает ее предполагаемую свободу. Или, возможно, дело в том, что настоящая причина, по которой кто-то выбирает карьеру в философии вместо карьеры в бухгалтерском учете, больше связана с подсознательными процессами в мозгу, окружающей средой и социальной ситуацией, в которой они находятся, а не с любым сознательным решением, которое они могут сделал.И если так, то если наш выбор действительно является причинным результатом бессознательных процессов в мозгу или внешних факторов окружающей среды, действительно ли кто-то из нас свободен? Действительно ли мы контролируем, кто мы и что делаем? Или правы скептики, придерживающиеся свободной воли, утверждая, что то, что мы делаем, и то, чем мы являемся, в конечном итоге является следствием внешних факторов, находящихся вне нашего контроля?
Чтобы исследовать, действуют ли люди иногда свободно, нам нужно сначала прояснить, что подразумевается под свободой воли. Обсуждение свободы имеет долгую историю, и свобода воли использовалась для применения к множеству, часто радикально различных способностей и способностей, которыми люди могут обладать, а могут и не иметь.
Полезно начать с того, что отметим, что большинство современных философов, пишущих на основе свободной воли, имеют в виду контроль, необходимый для морально ответственных действий (McKenna and Pereboom 2016, 6-7). То есть, спрашивать, свободен ли кто-то, означает спрашивать, имеют ли они контроль над своими действиями так, что заслуживают порицания или похвалы за то, что они делают (или не делают).
Детерминизм и свобода
Часто считается, что детерминизм и свобода воли находятся в глубоком конфликте.Верно это или нет, во многом зависит от того, что подразумевается под детерминизмом, и от того, что требует свобода воли.
Прежде всего, детерминизм — это не точка зрения, что свободные действия невозможны. Скорее, детерминизм — это точка зрения, согласно которой в любой момент физически возможно только одно будущее. Чтобы быть немного более конкретным, детерминизм — это точка зрения, согласно которой полное описание прошлого вместе с полным описанием соответствующих законов природы логически влечет за собой все будущие события.
Индетерминизм — это просто отрицание детерминизма.Если детерминизм несовместим со свободой воли, то это произойдет потому, что свободные действия возможны только в мирах, в которых физически возможно более одного будущего в любой момент времени. Хотя может быть правдой, что свобода воли требует индетерминизма, это не так просто по определению. Необходим дополнительный аргумент, который предполагает, что, по крайней мере, возможно, что люди иногда могут осуществлять контроль, необходимый для морально ответственных действий, даже если мы живем в детерминированном мире.
Прежде чем двигаться дальше, стоит сказать кое-что о фатализме.Очень легко принять детерминизм за фатализм, а фатализм, похоже, находится в прямом противоречии со свободой воли. Фатализм — это мнение о том, что мы бессильны делать что-либо, кроме того, что делаем на самом деле. Если фатализм истинен, то ничто из того, что мы пытаемся, или думаем, или намереваемся, или верим, или решаем, не имеет причинно-следственного воздействия или актуальности в отношении того, что мы на самом деле делаем.
Но заметьте, что детерминизм не обязательно влечет за собой фатализм. Детерминизм — это утверждение о том, что логически вытекает из правил / законов, управляющих миром и прошлым этого мира.Это не утверждение, что у нас нет сил делать что-то, кроме того, что мы на самом деле уже собирались делать. Это также не точка зрения, согласно которой мы не можем быть важной частью причинно-следственной истории, объясняющей, почему мы делаем то, что делаем. И это различие может дать некоторую свободу даже в детерминированных мирах.
Здесь будет полезен пример. Мы знаем, что температура кипения воды составляет 100 ° C. Предположим, мы знаем и в детерминированном, и в фаталистическом мире, что мой котелок с водой будет кипеть сегодня в 11:22 утра.Детерминизм утверждает, что если я возьму кастрюлю с водой, поставлю ее на плиту и нагрею до 100 ° C, она закипит. Это потому, что законы природы (в этом случае вода, нагретая до 100 ° C, закипит) и события прошлого (я ставлю кастрюлю с водой на горячую плиту) вызывают кипение воды. Но фатализм утверждает иное. Если моему горшку с водой суждено закипеть в 11:22 сегодня, то, что бы я ни делал, мой горшок с водой закипит ровно в 11:22 сегодня. Я могу попробовать вылить воду из кастрюли в 11:21.Я мог бы попытаться отнести горшок как можно дальше от источника тепла. Тем не менее мой котелок с водой закипит в 11:22 именно потому, что это должно было случиться. При фатализме будущее фиксировано или предопределено, но этого не должно быть в детерминированном мире. При детерминизме будущее — это определенный путь благодаря прошлому и правилам, управляющим этим миром. Если мы знаем, что горшок с водой закипит в 11:22 утра в детерминированном мире, это потому, что мы знаем, что различные причинные условия сохранятся в нашем мире, так что в 11:22 мой горшок с водой будет поставлен на огонь. источник и довели до 100 ° C.Наши размышления, наш выбор и наши свободные действия вполне могут быть частью процесса, который доводит воду до точки кипения в детерминированном мире, тогда как в фаталистическом мире это явно не имеет значения.
Три взгляда на свободу
Большинство описаний свободы относятся к одному из трех лагерей. Некоторые люди считают, что свобода требует просто способности «делать то, что ты хочешь делать». Например, если вы хотите пройти через комнату прямо сейчас, и у вас также была возможность прямо сейчас пройти через комнату, вы были бы свободны, поскольку вы могли бы делать именно то, что хотите.Мы назовем это легкой свободой.
Другие видят свободу на печально известной модели «Сад расходящихся тропок». Для этих людей свободное действие требует большего, чем просто способность делать то, что вы хотите. Это также требует, чтобы у вас была способность делать не то, что вы на самом деле делали. Итак, если Аня свободна, когда решает сделать глоток из своего кофе, с этой точки зрения, это должно быть так, что Аня могла воздержаться от потягивания кофе. Таким образом, ключ к свободе — это альтернативные возможности, и мы будем называть это взглядом на альтернативные возможности свободного действия.
Наконец, некоторые люди видят свободу как требующую не альтернативных возможностей, а правильного отношения между предшествующими источниками наших действий и действиями, которые мы фактически выполняем. Иногда эту точку зрения объясняют тем, что свободный агент является источником, возможно, даже конечным источником ее действий. Мы будем называть такой взгляд исходным взглядом на свободу.
Теперь ключевой вопрос, на котором мы хотим сосредоточиться, заключается в том, совместима ли какая-либо из этих трех моделей свободы с детерминизмом.Может оказаться, что все три вида свободы исключаются детерминизмом, так что свобода возможна только в том случае, если детерминизм ложен. Если вы считаете, что детерминизм исключает свободу действий, вы поддерживаете точку зрения, называемую инкомпатибилизмом. Но может оказаться, что одна или все три из этих моделей свободы совместимы с детерминизмом. Если вы считаете, что свободное действие совместимо с детерминизмом, вы компатибилист.
Давайте рассмотрим компатибилистские взгляды на свободу и две из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются компатибилисты: аргумент следствия и аргумент предельности.
Начните с легкой свободы. Совместима ли легкая свобода с детерминизмом? Группа философов, называемых классическими компатибилистами, определенно так думала. Они утверждали, что свобода воли требует от агента просто способности действовать без внешних препятствий. Предположим, прямо сейчас вы хотите отложить учебник и выпить чашку кофе. Даже если детерминизм верен, вы, вероятно, прямо сейчас можете сделать именно это. Вы можете отложить учебник, пойти в ближайший Starbucks и купить чашку кофе по завышенной цене.Ничто не мешает вам делать то, что вы хотите. Детерминизм, похоже, не представляет угрозы для вашей способности делать то, что вы хотите делать прямо сейчас. Если вы хотите перестать читать и выпить кофе, вы можете. Но, напротив, если бы кто-то приковал вас цепью к стулу, на котором вы сидите, все было бы немного иначе. Даже если бы вы захотели выпить чашку кофе, вы бы не смогли. У вас не будет возможности сделать это. Вы не сможете делать то, что хотите. Конечно, это не имеет ничего общего с детерминизмом.Не факт, что вы живете в детерминированном мире, который угрожает вашей свободе воли. Дело в том, что внешнее препятствие (цепи, удерживающие вас на стуле) мешает вам делать то, что вы хотите делать. Итак, если то, что мы подразумеваем под свободой, — это легкая свобода, похоже, что свобода действительно совместима с детерминизмом.
Легкая свобода натолкнулась на довольно убедительное противодействие, и большинство современных философов согласны с тем, что правдоподобное объяснение легкой свободы маловероятно. Но, безусловно, наиболее серьезную проблему, с которой сталкивается точка зрения, можно увидеть в аргументе следствия.Аргумент следствия следующий:
- Если детерминизм верен, то все человеческие действия являются следствием прошлых событий и законов природы.
- Ни один человек не может делать ничего, кроме того, что он делает на самом деле, кроме как путем изменения законов природы или изменения прошлого.
- Ни один человек не может изменить законы природы или прошлое.
- Если детерминизм верен, ни у одного человека нет свободы воли.
Это веский аргумент. Очень трудно понять, где этот аргумент ошибается, если он ошибается.Первая посылка — это просто повторение детерминизма. Вторая предпосылка связывает способность поступать иначе со способностью изменять прошлое или законы природы, а третья предпосылка указывает на очень разумное предположение, что люди не могут изменять законы природы или прошлое.
Этот аргумент фактически разрушает легкую свободу, предполагая, что мы никогда не действуем без внешних препятствий именно потому, что наши действия вызваны прошлыми событиями и законами природы таким образом, что мы не можем внести какой-либо вклад в причинное производство наших действий.Этот аргумент также, кажется, представляет более глубокую проблему свободы в детерминированных мирах. Если этот аргумент работает, он устанавливает, что при детерминизме мы бессильны поступить иначе, и в той степени, в которой свобода требует способности поступать иначе, этот аргумент, похоже, исключает свободное действие. Обратите внимание: если этот аргумент работает, он представляет собой проблему как для легкого, так и для альтернативного взгляда на свободу воли.
Как кто-то может ответить на этот аргумент? Во-первых, предположим, что вы принимаете альтернативный взгляд на свободу и полагаете, что способность поступать иначе — это то, что необходимо для подлинной свободы воли.Вам нужно будет показать, что альтернативные возможности, если их правильно понимать, не несовместимы с детерминизмом. Возможно, вы возразите, что если мы правильно поймем способность поступать иначе, мы увидим, что у нас действительно есть способность изменять законы природы или прошлое.
Это может показаться нелогичным. Как могло случиться так, что простой смертный мог изменить законы природы или прошлого? Вспомните решение Куинн провести ночь перед экзаменом с друзьями вместо учебы.Когда она приходит на экзамен в изнеможении и начинает винить себя, она может сказать: «Почему я ушла? Это было глупо! Я мог бы остаться дома и учиться ». И она вроде как права, что могла остаться дома. У нее была общая способность оставаться дома и учиться. Просто если бы она осталась дома и изучала бы прошлое, то было бы немного иначе или законы природы были бы немного другими. Это указывает на то, что может быть способ обналичить способность поступать иначе, совместимый с детерминизмом и позволяющий агенту как бы изменять прошлое или даже законы природы.
Но предположим, что аргумент следствия демонстрирует, что детерминизм действительно исключает альтернативные возможности. Означает ли это, что мы должны отказаться от взгляда на свободу с точки зрения альтернативных возможностей? Ну не обязательно. Вместо этого вы можете утверждать, что свобода воли возможна при условии, что детерминизм ложен. Это, конечно, большое «если», но, может быть, детерминизм окажется ложным.
Что, если детерминизм окажется правдой? Должны ли мы тогда сдаться и признать, что свободной воли нет? Что ж, это может быть слишком быстро.Доступен второй ответ на аргумент о последствиях. Все, что вам нужно сделать, это отрицать, что свобода требует способности поступать иначе.
В 1969 году Гарри Франкфурт предложил влиятельный мысленный эксперимент, продемонстрировавший, что свободная воля может вообще не требовать альтернативных возможностей (Франкфурт [1969] 1988). Если он прав в этом, то аргумент о последствиях, хотя и убедителен, не демонстрирует, что ни у кого нет недостатка в свободе воли в детерминированных мирах, потому что свобода воли не требует способности поступать иначе.Это просто требует, чтобы агенты были источником своих действий правильным образом. Но мы забегаем вперед. Вот упрощенный пересказ случая Франкфурта:
Черные хотят, чтобы Джонс выполнил определенное действие. Черные готовы пойти на все, чтобы добиться своего, но они предпочитают избегать ненужной работы. Поэтому он ждет, пока Джонс решит, что делать, и ничего не делает, если ему не ясно (Блэк отлично разбирается в таких вещах), что Джонс решит не делать то, что от него хотят Блэк. делать.Если станет ясно, что Джонс собирается сделать что-то иное, чем то, что хотели от него Блэки, Блэк вмешается и обеспечит, чтобы Джонс решил сделать и сделает именно то, что хотели от него Блэки. Какими бы ни были первоначальные предпочтения и склонности Джонса, Блэк добьется своего. Как выясняется, Джонс решает самостоятельно выполнить действие, которое Блэк хотел от него выполнить. Таким образом, хотя Блэк был полностью готов вмешаться и мог бы вмешаться, чтобы гарантировать, что Джонс выполнит действие, Блэк никогда не должен вмешиваться, потому что Джонс по собственным причинам решил выполнить именно то действие, которое хотел от него Блэк. выполнять.(Франкфурт [1969] 1988, 6-7)
Итак, что здесь происходит? Джонс преисполнен решимости выполнить конкретное действие. Что бы ни случилось, неважно, что Джонс изначально решит или хочет сделать, он будет выполнять действие, которое хотят от него черные. Он совершенно не может поступить иначе. Но обратите внимание, что, по-видимому, существует решающее различие между случаем, когда Джонс решает самостоятельно и по своим собственным причинам выполнить действие, которое хотел от него Блэк, и случаем, в котором Джонс воздержался бы от выполнения действия, если бы этого не произошло. поскольку черные вмешиваются, чтобы заставить их выполнить действие.В первом случае Джонс является источником его действий. Это то, что он решил сделать, и делает это по своим причинам. Но во втором случае Джонс не является источником его действий. Черный есть. Это различие, полагал Франкфурт, должно лежать в основе дискуссий о свободе воли и моральной ответственности. Контроль, необходимый для моральной ответственности, — это не способность поступать иначе (Франкфурт [1969] 1988, 9-10).
Если альтернативные возможности — это не то, что требует свобода воли, какой контроль нужен для свободного действия? Здесь у нас есть третий взгляд на свободу, с которого мы начали: свобода воли как способность быть источником ваших действий правильным образом.Сторонники компатибилизма утверждают, что этой способности не угрожает детерминизм, и, опираясь на идеи Франкфурта, разработали нюансированные, часто радикально расходящиеся источники информации о свободе. Должны ли мы сделать вывод, что предоставленная свобода не требует альтернативных возможностей, что она совместима с детерминизмом? Опять же, это было бы слишком быстро. У сторонников компатибилизма есть причины для особого беспокойства по поводу аргумента, разработанного Галеном Стросоном, который называется аргументом предельности (Strawson [1994] 2003, 212-228).
Вместо того, чтобы пытаться установить, что детерминизм исключает альтернативные возможности, Стросон попытался показать, что детерминизм исключает возможность быть конечным источником ваших действий. Хотя это проблема для любого, кто пытается доказать, что свобода воли совместима с детерминизмом, это особенно беспокоит сторонников компатибилизма, поскольку они связали свободу со способностью агента быть источником его действий. Вот аргумент:
- Человек действует по своей собственной воле только в том случае, если он является его источником.
- Если детерминизм верен, никто не является конечным источником ее действий.
- Следовательно, если детерминизм верен, никто не действует по своей собственной воле. (Маккенна и Перебум 2016, 148)
Этот аргумент требует распаковки. Прежде всего, Стросон утверждает, что в любой конкретной ситуации мы делаем то, что делаем, потому что мы есть ([1994] 2003, 219). Когда Куинн решает пойти куда-нибудь с друзьями, а не учиться, она делает это из-за того, какая она есть.Для нее важнее ночь с друзьями, чем учеба, по крайней мере, в ту роковую ночь перед экзаменом. Если бы Куинн осталась дома и училась, это было бы потому, что она немного отличалась, по крайней мере, той ночью. Она будет такой, что будет отдавать предпочтение подготовке к экзамену, а не ночному выходу. Но это применимо к любому решению, которое мы принимаем в нашей жизни. Мы решаем делать то, что делаем, потому что мы уже есть.
Но если то, что мы делаем, связано с тем, каковы мы есть, то для того, чтобы нести ответственность за свои действия, мы должны быть источником того, что мы есть, по крайней мере, в соответствующих умственных отношениях (Strawson [1994] 2003, 219 ).Есть первая посылка. Но вот и загвоздка: то, как мы есть, является продуктом факторов, находящихся вне нашего контроля, таких как прошлое и законы природы ([1994] 2003, 219; 222-223). Тот факт, что Куинн такова, что она предпочитает ночь с друзьями учебе, объясняется ее прошлым и соответствующими законами природы. Не от нее зависит, какая она есть. В конечном счете, именно факторы, выходящие далеко за ее пределы, возможно, вплоть до начальных условий вселенной, объясняют, почему она такая, какая она есть в ту ночь.И насколько это убедительно, окончательный источник решения Куинн уйти — не она. Скорее, это какое-то внешнее по отношению к ней состояние вселенной. И поэтому Куинн не свободен.
Опять же, на этот аргумент сложно ответить. Вы можете заметить, что «конечный источник» неоднозначен и требует дальнейшего уточнения. Некоторые компатибилисты указали на это и утверждали, что, как только мы начнем тщательно разрабатывать объяснения того, что значит быть источником наших действий, мы увидим, что соответствующее понятие источника совместимо с детерминизмом.
Например, хотя может быть правдой, что никто не является конечной причиной их действий в детерминированных мирах именно потому, что конечный источник всех действий простирается обратно до начальных условий вселенной, мы все же можем быть опосредованным источником наших действий. действия в смысле моральной ответственности. При условии, что фактический источник наших действий включает в себя достаточно сложный набор способностей, чтобы иметь смысл рассматривать нас как источник наших действий, мы все равно можем быть источником наших действий в соответствующем смысле (McKenna and Pereboom 2016, 154 ).В конце концов, даже если детерминизм верен, мы все равно действуем по причинам. Мы все еще размышляем, что делать, и взвешиваем причины за и против различных действий, и мы все еще озабочены тем, отражают ли рассматриваемые действия наши желания, наши цели, наши проекты и наши планы. И вы можете подумать, что если наши действия проистекают из истории, в которой мы задействуем все особенности нашей свободы воли для принятия решения, которое является ближайшей причиной наших действий, то эта причинная история является той, в которой мы являемся источником наших действия таким образом, который действительно имеет отношение к определению того, действуем ли мы свободно.
Другие отметили, что даже если верно то, что Куинн не свободна напрямую в отношении убеждений и желаний, которые предполагают, что она должна встречаться со своими друзьями, а не учиться (они являются результатом факторов, находящихся вне ее контроля, таких как ее воспитание, ее окружение, ее генетика или, возможно, даже случайная удача), это не обязательно означает, что ей не хватает контроля над тем, решит ли она действовать в соответствии с ними. Возможно, дело в том, что даже если то, как мы живем, может быть связано с факторами, не зависящими от нас, тем не менее, мы по-прежнему являемся источником того, что мы делаем, потому что даже при детерминировании от нас зависит, решим ли мы заниматься физическими упражнениями. контроль над нашим поведением.
Свобода воли и науки
Многие вызовы свободе исходят не от философии, а от науки. Есть два основных научных аргумента против свободы воли: один исходит из нейробиологии, а другой — из социальных наук. Исследования в области нейробиологии вызывают озабоченность в связи с тем, что некоторые эмпирические результаты предполагают, что весь наш выбор является результатом бессознательных мозговых процессов, и в той степени, в которой выбор должен быть сознательным, чтобы быть свободным выбором, кажется, что мы никогда не делаем сознательный свободный выбор. .
Классические исследования, обосновывающие картину действий человека, в которой бессознательные мозговые процессы выполняют основную часть причинной работы по действию, были проведены Бенджамином Либетом. В экспериментах Либета испытуемых просили согнуть запястья всякий раз, когда они чувствовали побуждение сделать это. Испытуемых просили отметить положение стрелки на модифицированных часах, когда они осознавали побуждение к действию. При этом их мозговая активность сканировалась с помощью технологии ЭЭГ. Либет отметил, что примерно за 550 миллисекунд до того, как субъект начнет действовать, с помощью технологии ЭЭГ будет измеряться потенциал готовности (повышенная активность мозга).Но испытуемые сообщали об осознании желания согнуть запястье примерно за 200 миллисекунд перед тем, как начать действовать (Libet 1985).
Это нарисовало странную картину человеческих действий. Если сознательные намерения были причиной наших действий, вы можете ожидать увидеть причинно-следственную историю, в которой сначала проявляется сознательное осознание желания согнуть запястье, затем нарастание активности мозга и, наконец, действие. Но исследования Либета показали причинную историю, в которой действие начинается с бессознательной активности мозга, субъект позже осознает, что он собирается действовать, и затем действие происходит.Сознательное осознание действия, казалось, было побочным продуктом фактического бессознательного процесса, который вызывал действие. Это не было причиной самого действия. И этот результат предполагает, что бессознательные мозговые процессы, а не сознательные, являются настоящими причинами наших действий. В той степени, в которой свободное действие требует, чтобы наши сознательные решения были исходными причинами наших действий, похоже, что мы никогда не сможем действовать свободно.
Хотя это исследование интригует, оно, вероятно, не доказывает, что мы несвободны.Альфред Меле — философ, который резко критиковал эти исследования. Он выдвигает три основных возражения против выводов, сделанных на основе этих аргументов.
Во-первых, Меле отмечает, что самооценки заведомо ненадежны (2009, 60-64). Сознательное восприятие требует времени, и мы говорим о миллисекундах. Фактическое положение стрелки часов, вероятно, намного ближе к 550 миллисекундам, когда агент «намеревается» или «побуждает» действовать, чем к 200 миллисекундам. Итак, здесь есть некоторые опасения по поводу экспериментального дизайна.
Во-вторых, в основе этих экспериментов лежит предположение, что то, что происходит в 550 миллисекунд, — это то, что принимается решение согнуть запястье (Mele 2014, 11). Мы можем оспорить это предположение. Либет провел несколько вариантов своего эксперимента, в котором он просил испытуемых приготовиться согнуть запястье, но не позволять себе этого делать. Таким образом, испытуемые просто сидели на стуле и ничего не делали. Либет интерпретировал результаты этих экспериментов как показывающие, что у нас может не быть свободной воли, но у нас определенно есть «свободная воля», потому что мы, кажется, способны сознательно наложить вето или остановить действие, даже если это действие может быть инициировано бессознательным. процессы (2014, 12-13).Меле указывает, что в этих сценариях может происходить то, что реальное намерение действовать или не действовать — это то, что происходит сознательно за 200 миллисекунд, и если это так, то нет оснований полагать, что эти эксперименты демонстрируют, что нам не хватает свободы воли ( 2014, 13).
Наконец, Меле отмечает, что, хотя некоторые из наших решений и действий могут быть похожи на щелчки запястьями, которые изучал Либет, сомнительно, чтобы все или даже большинство наших решений были такими (2014, 15).Когда мы думаем о свободе воли, мы редко думаем о таких действиях, как взмахи запястьями. Бесплатные действия, как правило, намного сложнее, и они часто связаны с тем, что решение сделать что-то растягивается во времени. Например, ваше решение о том, чему учиться в колледже или даже где учиться, вероятно, принималось в течение нескольких месяцев или даже лет. И это решение, вероятно, включало периоды как сознательного, так и бессознательного познания. Почему думают, что свободный выбор не может включать некоторые компоненты, которые не осознаются?
Отдельная линия нападок на свободу воли исходит из ситуационистской литературы по социальным наукам (особенно по социальной психологии).Растет количество исследований, свидетельствующих о том, что ситуационные факторы и факторы окружающей среды глубоко влияют на поведение человека, возможно, таким образом, что это подрывает свободу воли (Mele 2014, 72).
Многие эксперименты в ситуационистской литературе являются одними из самых ярких и тревожных во всей социальной психологии. Стэнли Милгрэм, например, провел серию экспериментов по послушанию, в которых обычных людей просили подавать потенциально смертельное электрическое напряжение на невиновного субъекта, чтобы продвинуть научные исследования, и подавляющее большинство людей это сделали! И в экспериментах Милгрэма то, что влияло на то, были ли испытуемые готовы применять разряды, были незначительными, казалось бы, незначительными факторами окружающей среды, такими как то, выглядел ли человек, проводящий эксперимент, профессионалом или нет (Milgram 1963).
Такие эксперименты, как эксперименты Милгрэма с послушанием, могут показать, что настоящими причинами наших действий являются наши ситуации, наше окружение, а не наш сознательный, рефлексивный выбор. А это может создать угрозу свободе воли. Следует ли воспринимать подобные исследования как угрозу свободе?
Многие философы сопротивлялись бы заключению, что свобода воли не существует на основе экспериментов такого рода. Как правило, не все, кто принимает участие в ситуационных исследованиях, неспособны противостоять ситуативным воздействиям, которым они подвержены.И похоже, что когда мы осознаем ситуативные влияния, мы с большей вероятностью будем им противостоять. Возможно, правильное представление об этом исследовании состоит в том, что существуют всевозможные ситуации, которые могут влиять на нас способами, которые мы не можем сознательно одобрять, но, тем не менее, мы все еще можем избежать этих эффектов, когда мы активно пытаемся это сделать. Например, науки о мозге позволили многим из нас живо осознать целый ряд когнитивных искажений и ситуационных влияний, которым обычно подвержены люди, но, тем не менее, когда мы осознаем эти влияния, мы менее восприимчивы к ним.Более скромный вывод, который здесь можно сделать, заключается не в том, что нам не хватает свободы воли, а в том, что осуществлять контроль над своими действиями гораздо труднее, чем многие из нас думают. На нас определенно влияет мир, частью которого мы являемся, но быть под влиянием этого мира отличается от того, чтобы быть определенным им, и это может позволить нам, по крайней мере, иногда, осуществлять некоторый контроль над нашими действиями.
Пока никто не знает, осуществляют ли люди иногда контроль над своими действиями, необходимый для моральной ответственности.Так что оставляю это тебе, дорогой читатель: ты свободен?
Список литературы
Франкфурт, Гарри. (1969) 1988. «Альтернативные возможности и моральная ответственность». В Важность того, о чем мы заботимся: философские очерки , 10-е изд. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.
Либет, Бенджамин. 1985. «Бессознательная мозговая инициатива и роль сознательной воли в добровольных действиях». Поведенческие науки и науки о мозге 8: 529-566.
Маккенна, Майкл и Дерк Перебум.2016. Свобода воли: современное введение. Нью-Йорк: Рутледж.
Меле, Альфред. 2014. Free: Почему наука не опровергает свободу воли . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Меле, Альфред. 2009. Эффективные намерения: Сила сознательной воли. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Милгрэм, Стэнли. 1963. «Поведенческое исследование послушания». Журнал аномальной и социальной психологии 67: 371-378.
Стросон, Гален.(1994) 2003. «Невозможность моральной ответственности». В Free Will, 2-е изд. Под редакцией Гэри Уотсона, 212-228. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
van Inwagen, Питер. 1983. Эссе о свободной воле. Оксфорд: Clarendon Press.
Дополнительная литература
Дери, Ойсин и Пол Рассел, ред. 2013. Философия свободы воли: основные выводы современных дебатов . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
Меле, Альфред.2006. Свободная воля и удача. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
Свобода воли vs. свобода действий | by Sinoperi
Оправдание «Я не несу ответственности за действие, потому что я не мог выбрать что-то другое» больше не работает.
Иллюстрация Лони Томпсон на mixkit.coОправдание «Я не несу ответственности за действие, потому что я не могу выбрать что-то другое» больше не работает. По крайней мере, с точки зрения философии. По крайней мере, в плане Франкфурта.
Свобода воли vs.Свобода действий
Прежде всего: что они оба? Или это не одно и то же?
Проще говоря, большинство согласится с определением свободы действий как свободы делать то, что хочется делать. И тогда свобода воли означала бы свободу выбирать, чего человек хочет или какова его воля.
Часто эти две способности рассматриваются как сугубо человеческие. Только люди свободны желать того, что они хотят, и делать то, что они хотят делать.
Философ Гарри Г.Франкфурт (родился в 1929 г.) имеет четкое представление о том, как структурированы наши желания и почему мы рассматриваем только людей как живые существа, которые могут иметь свободу воли, и он обсуждает это в своей статье «Свобода воли и концепция личности». .
В целом теория Франкфурта выглядит так:
Например, я хочу пить кофе.
Но что особенного в нас как людях, так это то, что у нас могут быть желания второго порядка: это желания, которые связаны с первичными, связанными с действием желаниями (Франкфурт называет их желаниями первого порядка).
Чтобы уточнить: желания первого порядка, как правило, представляют собой желание чего-либо (кроме самого желания), которое ведет к действию. Итак, желания второго порядка — это желание самого действия. Только люди имеют желания второго порядка — тогда как не люди могут иметь желания первого порядка.
Франкфурт приводит пример, рассмотрим кофейного наркомана (человека, который не может перестать хотеть кофе):
Желание (желание) кофе — Желание первого порядка.
Желание не хотеть кофе (т.е.желая перестать пить) — желание второго порядка .
Есть особая форма желания первого порядка и особая форма желания второго порядка.
Воля — это эффективное желание первого порядка, которое ведет к действию.
И особое желание второго порядка — это воля : это желание, чтобы одно конкретное желание первого порядка стало волей (действенным желанием). — То есть контролировать, какое желание вызывает наше действие.
Пройдя через эту (сначала) запутанную структуру, мы теперь можем понять свободу воли согласно Франкфурту.
Потому что Франкфурт сначала заявляет: только потому, что человек может иметь волю (= определять, какое желание будет действенным), он может действительно испытать радость (или отсутствие) свободы воли.
Франкфурт считает, что, как предполагает философская традиция, свобода обычно состоит из действий, которые поступают по своему усмотрению.
Философ четко различает свободу воли и свободу действий.
Если человек лишен свободы действий, он по-прежнему свободен иметь те желания, которые он хочет, то есть иметь волю, что другое желание становится волей, если первоначальную волю невозможно привести в действие (из-за отсутствия свободы действий).
Франкфурт даже утверждает, что человек, потерявший свободу действий, все еще так же свободен, как раньше.
Причина в том, что у человека все еще могут быть желания и разные вещи, «как если бы его свобода действий не пострадала».
Человек пользуется своей свободой воли, если его воля и его воля совпадают.
С другой стороны, если они не совпадают и заинтересованный человек осознает это, человек чувствует нехватку чего-то.
Например, если я решу, что мое желание пить кофе — это желание, которое я на самом деле не хочу иметь, скажем, мое желание состоит в том, чтобы не иметь этого желания, но я все еще не могу перестать пить кофе, я чувствую себя потерянным. Как будто у меня нет контроля над тем, что я на самом деле делаю и что я действительно хочу делать.Я чувствую, что у меня нет свободы воли.
На этом примере я хотел прояснить, почему тогда, напротив, живые существа, которые не являются личностями (которые не могут иметь воли), не имеют свободы воли: они не хотят, чтобы их волей было конкретное желание. , и не могут хотеть, чтобы их воля отличалась от той, которая есть на самом деле.
Следовательно, они не могут расстроиться из-за того, что иногда не хватает свободы воли. Так сказать, они скучают по своей свободе.
Вышеупомянутое было всего лишь общим планом, и сам Франкфурт признает, что люди намного сложнее, чем это:
Часто мы конфликтуем с самими собой, не зная, какое желание нам следует, но заранее определим наши действия, чтобы мы могли волеизъявление.
Если это состояние длится, и человек не может в достаточной мере идентифицировать себя с одним из своих первоочередных желаний, это приводит к нарушению личности. Тогда человек либо не может сделать, либо решить что-либо , либо воля действует без человека.
В обоих случаях человек оказывается «беспомощным наблюдателем движущих сил».
В нашем примере пить кофе или нет, анализ Франкфурта может проявиться в ситуации, когда я в конечном итоге разочаровываюсь и чувствую себя беспомощным, потому что не могу решить выпить этот кофе, потому что я хочу быть более бодрым и продуктивным, или за то, что воздержался от кофе из-за решения, которое я принял ранее из-за проблем со здоровьем, экологических проблем или чего-то еще.
Цепочка может продолжаться в том, с одной стороны, я хочу быть более продуктивным, чтобы что-то сделать, и не чувствовать себя плохо. Или я бы критиковал себя, потому что я никогда не придерживался своих решений и — также — плохо себя чувствовал.
Франкфурт продолжает и заявляет, что человек удовлетворен, если у него есть свободная воля. И человек, который чувствует себя отчужденным от своих желаний или просто пассивный, беспомощный наблюдатель, остается неудовлетворенным.
В заключение давайте посмотрим, как человек несет моральную ответственность за свои действия.
Франкфурт заявляет, что сегодняшние попытки определить свободу воли сопровождаются вопросом моральной ответственности. Философ считает, что связь между этими двумя понятиями полностью неверно истолкована:
По его мнению, неверно, что кто-то несет моральную ответственность только в том случае, если этот человек был свободен в своей воле к действию. Человек также несет ответственность, если его воля несвободна. Тот, кто свободен, мог выбрать и другую волю.
Сказать: «Кто-то мог поступить иначе», по мнению Франкфурта, сложно.Это важное обозначение в теории свободы, но оно не имеет ничего общего с моральной ответственностью. Потому что это не одно и то же: предположение, что люди несут моральную ответственность за то, что они сделали, не означает, что они должны быть свободны в выборе своей воли.
«Однако ошибочно полагать, что кто-то действует свободно только тогда, когда он свободен делать все, что хочет, или что он действует по своей собственной воле, только если его воля свободна».
Чтобы объяснить свое утверждение, Франкфурт говорит нам, что мы должны представить человека свободным в своих действиях и свободным в своей воле:
Затем человек свободно выбирает что-то делать и свободно выполняет действие.Но если предположить, что у человека были другие варианты выбора, у него не было бы , чтобы выбрал что-то другое. Человек выбрал волю, потому что он хотел выбрать это конкретное желание над другим.
С этой точки зрения, с моральной точки зрения кажется несущественным, имел бы этот человек другой выбор или нет.
Разница между свободой и независимостью | Джек Анто
# 23 Блог Четверг
Оба интуитивно понятные слова кажутся знакомыми для понимания.Но в контексте они различаются по значению. Как и где использовать, зависит от выбора пользователя, но мы часто упускаем их и ошибаемся.
Внимание читателей: Короткий блог о моем понимании разницы между Свободой и Независимостью. И как мне это помогает.
Свобода согласно Wiki
СВОБОДА , как правило, имеет возможность действовать или меняться без ограничений. Вещь «свободна», если она может легко изменить свое состояние и не ограничена своим текущим состоянием. Подробнее читать
Независимость согласно Wiki
Вопрос о том, отличается ли достижение независимости от революции, давно оспаривается, и часто обсуждается вопрос о насилии как законном средстве достижения суверенитета. Подробнее читать
Оба относятся к нации, границам и борьбе. Крепкие и патриотические слова, когда мы выражаем эти слова в любом разговоре. Честно говоря, я просто скопировал вставленное предложение вики, не читая его, потому что уверен, что объяснение этих слов будет касаться только нации, гордости или конституционных убеждений.
Уберите контекст, связанный со свободой и независимостью. Считайте это обычным словом, давайте использовать его в обычный день или на работе. Итак, что такое свобода и независимость?
Итак, когда я начал больше узнавать о свободе и независимости. Я наткнулся на этот простой пример, который определяет точное значение обоих.
Quora AnswerНезависимость означает, что вы можете делать что-то самостоятельно, не полагаясь на других, может быть, от помощи, в то время как свобода имеет более широкую границу, у которой нет ограничений или правил.Например, вы можете самостоятельно кататься на велосипеде, свободно объезжая весь парк.
Так что независимость ни от кого не зависит. Абсолютно.
Свобода связана с местом и временем. Это субъективно.
Оба эти слова тесно связаны с нами в повседневной работе. Принимаем мы это или нет, но это правда. Как?
Есть ли у вас свобода и независимость в работе? В конце дня этого хотят все. Свобода и независимость приходят с границей или ограничением, когда вы воспринимаете это как общую картину.Но насколько эффективно вы используете и то, и другое, имеет значение.
Я всегда спрашиваю себя, когда я приступаю к какой-либо работе. Есть ли у меня Свобода и Независимость проекта? Конечно да! Ничто в мире не имеет 100% свободы и независимости. Процент имеет значение, и это определяет, насколько эмоционально вы связаны с проектом.
У некоторых людей есть серые зоны, и они говорят, что оба они одинаковы. Я всегда привожу им пример с велосипедом.
Поймите разницу между Независимостью и Свободой, это отразит контекст вашей реальной жизни.И вы почувствуете разницу.
Медаль Вопрос?
Несколько раз моя команда сбивается с пути, может быть, из-за трудных проектов или из-за личных проблем. В тот момент я спросил их: « В чем разница между Свободой и Независимостью?».
Свобода и независимость связаны с доверием и ответственностью. Я доверяю человеку, который понимает и то, и другое. И их работы будут иметь значение.
Свобода или сила? — Фонд экономического образования
г.Саммерс является сотрудником Фонда экономического образования.О свободе много говорят. Это особенно верно, когда речь идет о государственной политике. Но чем внимательнее прислушиваешься, тем больше обнаруживаешь, что люди вообще не говорят о свободе. Они говорят о власти.
Нам лучше определить наши термины. Свобода — это отсутствие принудительного вмешательства в мирную деятельность. По словам Ф. А. Хайека, свобода — это «состояние, в котором человек не подвергается принуждению со стороны чужого или чужого произвола.Или, как выразился Милтон Фридман: «Политическая свобода означает отсутствие принуждения человека со стороны его собратьев».
С другой стороны, сила — это способность действовать. Это способность что-то делать — мирно или иначе. Если свобода относится к тому, что человек может делать, то власть относится к тому, что он может делать.
К сожалению, большинство людей не умеют различать свободу и власть. В результате было предложено и введено в действие множество принудительных программ во имя свободы.Фактически, некоторые из этих программ представляют собой не что иное, как передачу власти государством.
Свобода от нужды
Например, многие люди предлагают правительству гарантировать «свободу от нужды». Под этим они подразумевают, что каждый должен иметь достаточно средств для удовлетворения своих основных потребностей.
«Свобода от нужды» имеет сильную эмоциональную привлекательность. Его часто используют в качестве призыва те, кто выступает за национальное медицинское страхование, государственное жилье, талоны на питание и другие программы социального обеспечения.Но прежде чем эта концепция будет принята дальше, следует задать несколько вопросов.
Каждый ли заслуживает свободы от нужды? Заслуживают ли ленивые, антиобщественные и криминальные элементы общества по праву избавления от бедности?
Как должна быть гарантирована «свобода от нужды»? Включают ли средства принуждение, принося пользу одним за счет ограничения свободы других? Достигнут ли средства достижения поставленной цели — или они приведут к еще большей бедности?
Прежде чем ответить на любой из этих вопросов, мы должны задать более простой вопрос: какое отношение «свобода от нужды» имеет к свободе?
Обращаясь к нашим определениям, мы видим, что «свобода от нужды» — это не «состояние, в котором человек не подвергается принуждению со стороны произвольной воли другого или других.«Свобода от нужды» — это возможность покупать определенные предметы. Это покупательная способность (способность) покупать товары и услуги.
Обладает ли кто-нибудь этой силой, может зависеть от его свободы. Но вопреки распространенному мнению, свобода человека не зависит от его богатства. Мы рассмотрим эти отношения позже. Пока мы просто указываем, что свобода и покупательная способность — это не одно и то же.
Свобода от эксплуатации
«Свобода от эксплуатации» также имеет сильную эмоциональную привлекательность.Эта маленькая фраза сыграла важную роль в принятии многих законов, в частности о повышении минимальной заработной платы.
Но повышение минимальной заработной платы не дает рабочим большей свободы. Фактически, это ограничивает их свободу претендовать на рабочие места. Например, подростки больше не могут предлагать носить продукты за 3 доллара в час, когда минимальная заработная плата составляет 3,35 доллара. Они останутся безработными, пока клиенты несут свои собственные посылки.
Если законы о минимальной заработной плате лишают неквалифицированных рабочих их рабочих мест, почему их поддерживают профсоюзы? Ответом может быть благонамеренная, но ошибочная забота о бедных.Но мы должны иметь в виду факт, который часто упускают из виду: когда низкопроизводительные работники юридически исключены из рынка, законы о минимальной заработной плате дают высокопроизводительным работникам большую переговорную позицию. Им не нужно беспокоиться о конкуренции со стороны более дешевой и менее производительной рабочей силы.
Законы о минимальной заработной плате явно ограничивают свободу работодателей нанимать неквалифицированных рабочих. Но свобода найма — это не способность эксплуатировать. Когда рабочий свободно соглашается на размер заработной платы, он делает это потому, что в данный момент это его лучший вариант.С его точки зрения, ему лучше согласиться на зарплату, чем делать что-либо еще. Его эксплуатируют только тогда, когда его принуждают, например, когда профсоюзные лидеры используют его принудительное исключение с рынка труда.
Контроль арендной платы
Страх эксплуатации также сыграл важную роль в снижении ренты. Эти правила призваны защищать арендаторов от «эксплуатации», обеспечивая им «свободу от чрезмерного повышения арендной платы».
Мы снова должны спросить: какое отношение это имеет к свободе?
Повышение арендной платы не является угрозой принуждения.Это пересмотренное предложение домовладельца о ведении бизнеса — обмене продолжающегося использования квартиры по пересмотренной цене. Как и в любой другой рыночной сделке, потребители (в данном случае арендаторы) могут принять сделку или отказаться от нее. Повышение арендной платы не угрожает свободе.
Но повышение арендной платы действительно угрожает праву (способности) арендаторов владеть квартирами. Контроль арендной платы призван защитить эту власть. Эти меры контроля дают нынешним арендаторам право удерживать квартиры, которые потенциальных арендаторов с удовольствием заплатили бы больше за аренду.
Конечно, это ограничивает свободу помещиков. И, не позволяя потенциальным арендаторам участвовать в торгах за квартиры, контроль также ограничивает их свободу.
Контроль за арендной платой также снижает полномочия домовладельцев взимать «высокую» арендную плату. Но, как мы видели, эта сила не является принудительной. И это не произвольно. Он определяется предложением арендного жилья и спросом арендаторов. В этих условиях единственной «чрезмерной» арендной платой является арендная плата, которую ни один арендатор не будет свободно платить, — арендная плата, превышающая условия спроса и предложения, установленные рынком.
Минимальная заработная плата и размер арендной платы — это всего лишь две формы контроля над ценами. Любой такой контроль ограничивает свободу, отменяя цены, мирно согласованные на рынке. И все это создает настолько плохие условия, что быстро предлагаются дальнейшие шаги на свободе. Все это, конечно же, во имя свободы!
В 1979 году, например, Министерство энергетики удерживало цены на бензин ниже рыночных. Когда спрос превысил предложение, вскоре возник дефицит и длинные очереди.Для устранения этих линий было предложено ввести нормирование, чтобы каждый водитель имел «свободу» покупать фиксированное количество газа по контролируемым ценам.
Но это не свобода. Это возможность (надеюсь) получить определенное количество бензина, не позволяя другим водителям покупать больше, чем разрешено законом. Нормирование ограничивает свободу потребителей, отказывая им в праве участвовать в торгах на товары и услуги.
Любое вмешательство государства в экономику ограничивает чью-то свободу — то, что он может сделать.Эффект вмешательства на его власть — то, что он может сделать — более сложен. Подробнее об этом позже.
Давайте теперь рассмотрим некоторые свободы, которые обычно считаются неэкономическими, — свободу объединений, свободу слова и свободу печати. Эти заветные свободы, как мы увидим, часто используются как лозунги, чтобы отвлечь внимание от принудительных действий.
Свобода ассоциации
Свобода объединяться — это право мирно взаимодействовать с другими согласными людьми.Это, безусловно, форма свободы — отсутствие принудительного вмешательства в мирную деятельность. Но «свобода объединяться» также используется для оправдания деятельности, которая далеко не мирная.
Например, в США профсоюзные работники имеют право объединяться. Никто не может законно вмешиваться в их мирную деятельность. Но в соответствии с федеральным законом и различными постановлениями Национального совета по трудовым отношениям и Верховного суда правительство редко вмешивается, когда профсоюзные работники препятствуют объединению работников, не являющихся профсоюзами, с работодателями.Таким образом, на практике «свобода объединений» вырождается в грубую силу, исключающую работников, не являющихся профсоюзами, даже когда профсоюзные рабочие уволились и объявили забастовку.
Меньшинства также хотят «свободы объединяться». Они хотят общаться с другими людьми, не страдая от расовой дискриминации. Это понятное желание.
Но мы должны помнить, что дискриминация — это не принуждение. Когда правительство предпринимает позитивные действия, оно не защищает меньшинства от принудительного вмешательства в мирную деятельность.И, вероятно, это не уменьшает предрассудков тех, с кем меньшинства хотят объединиться. Позитивные действия дают меньшинствам возможность иметь дело с менеджерами по персоналу, деканами колледжей, домовладельцами и другими людьми на более выгодных условиях. Позитивные действия принуждают этих людей, тем самым ограничивая их свободу.
Позитивные действия могут ограничивать свободу предпринимателей, но как насчет их власти? Разве бизнесмены не могут произвольно дискриминировать работников из числа меньшинств без позитивных действий?
Нет, если они хотят получать прибыль.Прибыль не получается путем произвольного найма, продвижения по службе или увольнения сотрудников. Их нельзя заработать, позволяя предрассудкам мешать здоровой деловой практике. Их не зарабатывают, нанимая кого-либо, кроме самого лучшего человека, который выполняет свою работу. Избыточный мотив прибыли, регулируемый ничем иным, как свободной рыночной конкуренцией, является лучшей защитой рабочего от произвольной дискриминации.
Свобода слова
Даже свобода слова и свобода печати иногда используются как прикрытие власти.Эти свободы гарантируют право использовать собственность для продвижения идей. Но некоторых это не устраивает. Они требуют (и часто получают) право использовать собственность других людей — торговые центры, колледжи, радио- и телестанции — в качестве форума.
Такие люди, возможно, не понимают, что наличие большего форума — большего количества собственности — не дает никому большей свободы. Это, конечно, может дать владельцу больше полномочий (возможностей) для изложения своих идей. Но это не делает его идеи более убедительными и не обязательно вызывают большее одобрение.
В свободном обществе самый богатый человек не может вмешиваться в свободу слова и печати беднейшего человека. Также на свободном рынке никто не может вмешиваться в мирные усилия человека по приобретению собственности. Он волен построить более крупный форум.
Эти несколько примеров иллюстрируют нынешнюю путаницу между свобода, и власть. Есть множество других примеров. Достаточно быть внимательным слушателем и читателем, чтобы уловить их.
Имея в виду эти примеры, давайте рассмотрим следующие вопросы: Какова связь между свободой человека и его силой (способностью) действовать? Меняются ли эти отношения со временем? Как государственное вмешательство влияет на эти отношения?
Эти вопросы требуют тщательного изучения значения свободы — отсутствия принудительного вмешательства в мирную деятельность.К сожалению, в большинстве исследований просто указывается, что чем меньше принудительных вмешательств, тем больше свободы у людей. При прочих равных это правда. Но как насчет того, чем человек может мирно заниматься? Более полный анализ свободы должен включать обе концепции.
Диапазон опций
Таким образом, к нашим вопросам, возможно, лучше всего подходить, рассматривая возможности человека — альтернативы, с которыми он сталкивается. С этой точки зрения, чем больше вариантов мирно реализует человек без принудительного вмешательства, тем больше у него свободы.Точно так же, чем больше у него возможностей достичь — мирным или иным путем — тем больше его власть.
На первый взгляд может показаться, что между свободой и властью нет никакой связи. В большинстве случаев можно найти практически любую комбинацию из двух.
Рассмотрим, например, различные комбинации свободы и власти, существовавшие около 1700 года. В то время монархи обладали большой свободой и большой властью. Знать, восседавшую на престоле, часто обладали большой властью, но мало свободы от произвольного вмешательства монарха.У призывников, крепостных и рабов было мало свободы и власти. Американские колонисты обладали значительной свободой, но небольшой властью.
В командном обществе сочетание свободы и власти остается относительно неизменным. Пока правитель остается у власти, он продолжает иметь большую личную свободу, его приспешники продолжают иметь большую власть, а массы по-прежнему имеют небольшую свободу или власть. Командное общество — это статичное общество.
Однако в более свободном обществе развиваются динамические отношения между свободой и властью.Например, когда американские колонисты вели свои дела в относительной свободе, они процветали. Их покупательная способность выросла, увеличивая количество вариантов, которые они могли получить мирными средствами. У них появилось больше возможностей заниматься мирной деятельностью.
По мере того, как колонисты процветали на свободе, они накапливали капитал и пробовали новые идеи. Они создали новые продукты и новые производственные процессы. Это увеличило количество альтернатив, которые их товарищи могли мирно использовать без принудительного вмешательства.Они получили больше свободы.
Короче говоря, с точки зрения мирной деятельности, свобода порождает больше свободы и больше силы.
Несмотря на эти благоприятные тенденции, многие люди утверждают, что свободный рынок создает крупные компании, обладающие полномочиями принуждать, — гигантские корпорации, конгломераты и финансовые учреждения. Но мы должны спросить, является ли предложение большого количества товаров и услуг принуждением? Угрожает ли работа свободе? На свободном рынке сила крупного бизнеса — это не что иное, как возможность предложить множество вариантов.На свободном рынке у этих предприятий нет силы принуждать.
Свобода и вмешательство правительства
Но вмешательство правительства действительно насильственное. Когда эти вмешательства превышают то, что необходимо для поддержания мира, люди становятся менее свободными.
Например, постановления Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запрещают потребителям покупать определенные продукты. Налоги, правила и контроль цен уменьшают доступность других товаров и услуг. Правила лицензирования и законы о минимальной заработной плате не позволяют работникам участвовать в торгах на вакансии.Все подобные вмешательства правительства сокращают круг возможностей, которые человек может мирно использовать.
Хотя вмешательство государства сокращает диапазон возможностей, затрудненный рынок по-прежнему создает возможности. В равновесии люди все еще могут обретать свободу. Но они не так свободны, как были бы, если бы правительство не вмешалось.
Часто можно услышать утверждение, что правительство само создает варианты. Например, общественные работы рассматриваются как возможности трудоустройства, созданные для миллионов рабочих.Нам говорят, что потраченные на налоги деньги создают большую покупательную способность и большую свободу.
Эта аргументация игнорирует простой факт: каждый доллар, потраченный на общественные работы, — это доллар, который не будет потрачен на частные работы. Общественные работы не приносят чистой прибыли с точки зрения занятости, товаров или услуг. Но они действительно приводят к потере свободы, поскольку налогоплательщиков принуждают финансировать проекты, которые они не поддерживают добровольно. Общественные работы не создают покупательной способности; они сокращают свободу за счет принудительной передачи покупательной способности из частного в государственный сектор.
Некоторые люди утверждают, что вмешательство государства улучшает положение людей за счет устранения нежелательных вариантов — низкой заработной платы, высокой арендной платы, высоких цен на газ. Но сам факт того, что люди выбирают эти варианты, показывает, что для них эти варианты предпочтительнее безработицы, отсутствия жилья и газа.
Несмотря на такие софизмы, проблема ясна: вмешательство правительства ограничивает свободу.
Власть и вмешательство правительства
Как государственное вмешательство влияет на власть человека (его способность действовать)? Для многих это ключевой вопрос.Они будут мириться с государственными программами, снижающими покупательную способность высшего и среднего классов, и даже защищать их, если эти программы увеличивают покупательную способность бедных.
В краткосрочной перспективе такие программы могут работать. Отправьте кому-нибудь чек на социальное обеспечение, дайте ему талоны на питание, дайте ему надбавку к квартплате, и его покупательная способность временно повысится.
Но покупательная способность — способность покупать товары и услуги — зависит не только от благосостояния человека. Это также зависит от набора опций, предлагаемых на рынке.
В долгосрочной перспективе вмешательство государства снижает стимулы к работе и инвестированию, сокращает сбережения, доступные для инвестиций, сокращает возможности, которые предприниматели замечают и используют, — сокращает возможности, предлагаемые на рынке. С течением времени диапазон альтернатив каждого человека сужается по сравнению с тем, чем он стал бы на свободном рынке. В конечном итоге все — даже предполагаемый получатель — имеют меньшую покупательную способность.
Например, покупательная способность профсоюзов, получаемая от исключения работников, не являющихся профсоюзами, вскоре съедается налогами, ростом цен и другими издержками государственного вмешательства.Право удерживать квартиры с контролируемой арендной платой становится менее ценной, поскольку контроль превращает эти квартиры в трущобы. Даже выгоды, которые меньшинства получают благодаря позитивным действиям, более чем компенсируются жестким налогообложением и удушающим законодательством. В конечном итоге всем этим людям было бы лучше в свободном обществе без предоставленных государством привилегий.
Многие сторонники государственного вмешательства игнорируют долгосрочную перспективу. Они указывают, например, что для бедных не имеет значения, ограничивают ли нормированные ограничения или высокие цены их десятью галлонами газа в неделю.Они говорят, что свобода покупать товары и услуги — это пустая свобода, если люди не могут себе их позволить.
Конечно, это правда, что в любой момент времени покупательная способность человека относительно фиксирована. На данный момент все, что он может сделать, — это перенаправить свои ресурсы.
Но время идет. В свободном обществе на рынок постоянно поступает все больше товаров и услуг. А в свободном обществе люди могут работать, сберегать и инвестировать, чтобы накапливать богатство. Со временем — если производители и потребители будут свободны — бедняки смогут позволить себе более десяти галлонов газа.В конечном итоге свобода особенно важна для бедных.
К сожалению, многие бедняки не понимают плодородия свободы. Сосредоточившись на краткосрочной выгоде, они, как правило, больше заинтересованы в покупательной способности, которой им не хватает, чем в свободе, которой они могут обладать. Эта близорукость поощряется программами социального обеспечения, обещающими немедленное вознаграждение, в то время как они разрушают условия, способствующие производству на больших расстояниях.
Упущенные возможности
Эти аргументы с точки зрения производства подкреплены основополагающим наблюдением Исраэля М.Кирзнер: Люди склонны замечать возможности, которыми они могут воспользоваться. Свобода вдохновляет на открытия.
Например, одна из причин, по которой американские колонисты открыли новые технологии производства, заключается просто в том, что они могли бесплатно попробовать их. Они могли свободно искать альтернативы, тем самым создавая новые возможности для своих собратьев. Это подтверждает наше предыдущее утверждение: с точки зрения мирной деятельности свобода порождает больше свободы и больше силы.
К тому же, указывает Кирзнер, когда вариант исключается, люди склонны его игнорировать.Бедные люди, живущие в условиях нормирования топлива, обычно упускают из виду возможности трудоустройства, которые в отсутствие нормирования позволили бы им покупать больше топлива. Точно так же, когда бизнесменам по закону запрещено перевозить почту первого класса, они не видят альтернативных средств доставки. Чтобы люди заметили такие возможности, требуется снятие юридических запретов.
Поскольку исключенные варианты остаются незамеченными, противники государственного вмешательства часто не получают общественной поддержки. Например, на слушаниях по контролю арендной платы арендодатели значительно превосходят численностью арендаторов.Однако отсутствуют потенциальные арендаторы, которые не осознают, что меры контроля не позволяют им получить квартиры. Также отсутствуют потенциальные арендодатели и застройщики, которые в случае отмены контроля восприняли бы квартиры как возможности для инвестиций.
Нет точной оценки затрат на вмешательство
Никто не может идентифицировать этих невольных жертв вмешательства. Фактически, многие из жертв, не осознавая, что их возможности ограничиваются, могут быть горячими сторонниками вмешательств, которые приносят им наибольший вред.Например, безработный подросток может поддерживать закон о минимальной заработной плате, который не позволяет ему начать карьеру.
Интеллектуальные защитники свободы также действуют в кажущемся невыгодном положении. Поскольку исключенные варианты остаются незамеченными, защитники свободы никогда не могут полностью перечислить все возможности, которые люди потеряли. Например, сколько квартир никогда не было построено из-за угрозы контроля над арендной платой? Сколько рабочих мест было ликвидировано законодательством о минимальной заработной плате? Сколько систем частной доставки почты было запрещено законной монополией правительства? Сколько вариантов было разрушено вмешательством правительства?
По той же причине экономисты никогда не могут измерить всю покупательную способность, разрушенную государственным вмешательством.У них нет возможности узнать, какие производственные возможности никогда не использовались или даже не рассматривались, потому что они были запрещены налогами и нормативными актами.
Но эти недостатки скорее надуманные, чем реальные. Аргументы в пользу свободы не основываются на списках упущенных возможностей и оценках упущенной покупательной способности. В конечном итоге он опирается на моральные принципы. Когда люди отвергают власть, полученную за счет свободы другого человека — когда они убеждены, что принудительное вмешательство в мирную деятельность аморально, — свобода восторжествует.[]
Свобода воли: примеры и определение
I. Определение
Когда наконец было доказано, что Тед Банди хладнокровно убил десятки женщин, был только один способ избежать самого сурового наказания (которым он действительно получил) — защита безумия. Большинство из нас согласны с тем, что люди несут ответственность за свои действия только до тех пор, пока у них есть возможность «свободно выбирать» их; и наша правовая система допускает, что если вы достаточно невменяемы, у вас может не быть этой способности.Эта способность выбирать — это то, что мы называем «свободой воли», и люди на протяжении всей истории считали ее самым уникальным и определяющим качеством человеческих существ, тем, которое якобы показывает, что у нас есть душа или сознание, и делает нас морально ответственными и свободными в в отличие от животных.
Жаль, что мы не знаем, что это, кроме того. Существует множество теорий, но одна из самых популярных состоит в том, что свобода воли — это иллюзия. Что мы, по сути, машины, которые думают, что у нас есть только свобода воли.Потому что свободной воле может не быть места в научной модели разума / мозга. Тем не менее, мораль, свобода, ответственность, свобода воли и любовь, кажется, зависят от этого, и почти все из нас чувствуют , что оно у нас есть, поэтому философы продолжают искать способ, которым это могло быть больше, чем заблуждение.
И «свобода», и «воля» — тонкие и неоднозначные понятия. Оба важны для идеи. Одна только свобода может зависеть от внешних ограничений. У вас может быть свободный ум, но если вы находитесь за решеткой, вы не можете действовать по своему усмотрению.Слово «воля» подразумевает свободу разума, а не свободу в мире, но что такое воля? Наши желания порождаются огромным и непостижимым механизмом нашего подсознательного разума. Как сказал знаменитый философ Артур Шопенгауэр: «Человек может делать то, что он хочет, но не может желать того, что он хочет». С точки зрения когнитивной науки Шопенгауэр должен быть прав; потому что то, что мы хотим, возникает из детерминированной физической механики нашего мозга, благодаря опыту.
II.Споры
Компатибилизм против инкомпатибилизма: совместима ли свободная воля с детерминизмом?
Инкомпатибилисты — аргумент происхождения: Иметь свободную волю означает быть основной причиной собственных действий. Если детерминизм верен, то наш выбор вызван событиями в прошлом, над которыми мы не можем повлиять. Следовательно, свобода воли и детерминизм несовместимы.
Компатибилисты — «способность поступать иначе» : иметь свободную волю означает только то, что человек всегда может поступать иначе, чем он делал, и поступил бы иначе, если бы это казалось лучшим способом достижения целей.Это означает, что что-то в психологии или мире человека должно отличаться, чтобы принять другое решение. Такое определение свободы воли, кажется, идет в обход детерминизма.
Инкомпатибилисты не согласны, утверждая, что свобода воли зависит от наличия множества возможных вариантов будущего на выбор, и все они согласуются с одним прошлым — этот свободный выбор должен добавлять что-то, что еще не было дано прошлым.
Инкомпатибилисты — аргумент о последствиях: Иметь свободу воли означает иметь некоторый контроль над своими действиями и их последствиями.Если детерминизм верен, то мы не можем контролировать прошлые, настоящие или будущие события; все они являются необходимыми следствиями того, что было раньше.
III. Знаменитые цитаты
Цитата № 1:
«Удалите благодать, и вам нечего будет спастись. Уберите свободу воли, и у вас не будет ничего, что можно было бы спасти ». — Ансельм Кентерберийский
Ансельм Кентерберийский, христианский монах и философ 10 -го века, выражает парадокс, лежащий в основе христианства.Согласно христианской мысли, Божья благодать, приносящая спасение, недоступна человеческим способностям познать или изменить. Тем не менее, свобода воли — это то, что делает людей морально ответственными существами, подверженными проклятию и спасению. Другими словами, свобода воли не имеет отношения к спасению в одном смысле, а вся его суть — в другом.
Цитата № 2:
«Вы говорите: я не свободен. Но я поднимал и опускал руку. Все понимают, что этот нелогичный ответ — неопровержимое доказательство свободы.»- Лев Толстой, Война и мир
Этот нефилософский аргумент, вероятно, является достаточным доказательством для большинства людей, что свобода воли реальна. К сожалению, это несложно опровергнуть. Толстой не был знаком с идеей роботов. Простой робот можно запрограммировать так, чтобы он поднимал руку только в ответ на определенные стимулы; вопрос в том, неужели мы просто более сложные роботы?
IV. Типы
Инкомпатибилист:
Метафизический либертарианство : Детерминизм ложен, поэтому свободная воля возможна.
Жесткий детерминизм: Детерминизм истинен, а свобода воли невозможна.
Жесткий инкомпатибилизм: Не только детерминизм несовместим со свободой воли, но и недетерминизм; свобода воли невозможна независимо от детерминизма.
Причинно-следственный счет событий: Выбор свободен только до тех пор, пока он детерминированно не вызван событиями вне разума.
Компатибилист:
Воля и интеллект: Свобода воли состоит из способности выбирать образ действий, который считается наилучшим для достижения целей.Это может быть совместимо с детерминизмом.
Иерархическая модель: Свобода воли состоит из «волей второго порядка». Воля первого порядка чего-то хочет, например «Я хочу мороженое.» Воля второго порядка — это желание чего-то хотеть: «Я хочу мороженого». Другими словами, свобода воли — это возможность выбирать свою волю.
Реагирование на причины : Свобода воли чувствительна к причинам и способна на них реагировать.Другими словами, если я могу передумать в свете новой информации или рассуждений, у меня есть свобода воли.
Непричинный счет или счет «собственности» : Можно считать, что я контролирую свою волю только на том основании, что она моя — что это происходит внутри меня.
V. Свобода воли против эпифеноменализма
Эпифеноменализм — это теория, согласно которой сознание является эпифеноменом — случайным побочным продуктом мозга / разума — например, тем фактом, что кровь красная.Покраснение крови бесполезно и не влияет на процессы в организме (насколько я знаю). Кровь красная из-за своих химических свойств, но краснота сама по себе не имеет никакого значения. Если сознание — это эпифеномен мозга, то это не что иное, как свойство переживания. Наше ощущение, что это позволяет нам делать выбор, является иллюзией. Наше подсознание порождает как наши действия, так и опыт воли, но в действительности опыт воли на самом деле не вызывает наших действий; это просто история, которую нам рассказывает наш мозг.
VI. История
Почти каждый философ и религия в истории может что-то сказать о свободе воли; мы лишь попробуем разобраться в разнообразии этих точек зрения.
Буддизм, основанный около 500 г. до н.э., рассматривает проблему иначе, чем любой из западных аргументов, которые мы будем обсуждать. Буддийская «доктрина взаимозависимого возникновения» утверждает, что все вещи, включая события и выбор, возникают из-за зависимости друг от друга. Ничто не является единственной причиной.Буддисты также верят, что наши умственные состояния и выбор обусловлены невежеством и привычками, что делает любую свободную волю не полностью свободной. Просвещенный ум, свободный от невежества и привычек, больше не воспринимает себя отдельно от остального мира. Трудно сказать, что станет с «свободой воли» в этом сценарии. Если все наши умы являются частью более фундаментального единства, тогда, возможно, наша воля должна принадлежать этому единству, называемому буддистами природой будды.
Аристотель и другие греки обсуждали проблему свободы воли и заявляли, что она состоит из двух вещей: «свободы действий» — способности делать то, что выбирает человек, и «свободы выбора» — способности выбирать то, что он выбирает.Аристотель классифицировал это как силу или способность человека. Это было названо «факультетской» моделью свободы воли. И греки, и многие последующие утверждали, что оно состоит как из воли, так и из разума; чтобы быть свободным, человек должен уметь оценивать свои возможности и делать выбор на основе этой оценки. Без причины, хотя вы по-прежнему можете делать выбор, вы не сможете достичь своих целей и можете стать рабом зависимости, привычки или контроля над разумом, фактически нанося вред свободе воли.
Иудаизм и христианство, по-видимому, играют особую роль в свободе воли в их истории сотворения, как о средстве «первородного греха» в Бытии. Эту идею о том, что бог дал людям свободу воли, а Ева злоупотребляла ею под влиянием змея, можно интерпретировать по-разному. Избегая наивно буквального толкования, оно, кажется, выражает, что свобода воли — самая богоподобная способность человечества, та, которая делает нас морально ответственными, и та, которая допускает зло в мир.
В 17, -м, веке Рене Декарт предложила возможное решение проблемы свободы воли против естественного права.Его «интеракционистский дуализм» представляет разум и материю как две совершенно разные субстанции, каждая из которых может вызывать изменения в другой. Это следует интерпретировать как в защиту свободы воли, так и как антидетерминизм, поскольку это означает, что разум может вызывать в мозгу физические события, которые не были вызваны предыдущими физическими событиями. Модель Декарта имеет множество, казалось бы, неразрешимых проблем, таких как вопрос о том, как разум и материя могут взаимодействовать, если они являются совершенно разными субстанциями.
Дэвид Хьюм и Томас Гоббс, казалось, рассматривали свободу воли только с точки зрения «свободы действий» или того, что мы могли бы назвать «свободой».Поэтому они считали, что свободная воля и детерминизм совместимы; до тех пор, пока вам не мешают внешние ограничения действовать по вашему выбору, у вас есть свобода воли. Эта точка зрения отклоняет вопрос о чисто внутренней свободе, точка зрения, хорошо представляющая рационализм и прагматизм, которые преобладали в западной философии при их жизни (17 -е, -18 -е века).
Затем, в 1980-х годах, французский нейробиолог Бенджамин Либет провел эксперимент, который многие приняли как доказательство того, что свобода воли — это иллюзия.Он проинструктировал испытуемых нажимать кнопку по их желанию и отмечать положение секундной стрелки на часах в момент, когда они принимают это решение. В то же время он использовал электроды для измерения электрического «потенциала готовности» в мозгу — показателя того, когда мозг испытуемых готовился нажать на кнопку. Он обнаружил, что «потенциал готовности» предшествует сознательному осознанию этого выбора на несколько десятых долей секунды. Это указывает на то, что их мозг решил нажать на кнопку раньше, чем это сделал их сознание (думали, что они).Это говорит о том, что сознательное волеизъявление — это обман нашего мозга. Эта интерпретация эксперимента все еще обсуждается, и аналогичные или улучшенные версии эксперимента проводятся, чтобы поддержать или опровергнуть этот вывод.
В то же время те, кто стремится вписать настоящую свободную волю в научный взгляд на Вселенную, были очень увлечены квантовой теорией, которая, кажется, доказывает, что на субатомном уровне все события немного неопределенны. Однако другие отмечали, что введение фундаментальной случайности в физику может не работать в пользу свободы воли.Случайные силы, кажется, способствуют свободе воли не больше, чем детерминизм!
VII. Свободная воля в поп-культуре
Пример № 1 : Оракул в Матрица :
Во втором фильме «Матрица» Нео и Оракул углубляются в проблему детерминизма и свободы воли, поднятую в первый фильм. Оракул снова несколькими способами намекает, что их выбор уже определен. «Мы все здесь, чтобы делать то, для чего мы все здесь.Она знает все, что Нео собирается делать, поэтому он, очевидно, не может поступить иначе. Она говорит, что здесь, потому что любит конфеты, намекая, что их действия определяются тем, как они родились или были созданы, в ее случае. Она говорит, что Нео пришел не для того, чтобы сделать выбор, а для того, чтобы понять, почему он его делает. Это звучит как смесь физикалистского детерминизма, эпифеноменализма и какой-то неопределенной необъяснимой духовности.
Пример № 2 : Westworld
В телешоу Westworld особенно хорошо получается драматизировать идею о том, что свобода воли — это иллюзия.Все роботы в сериале верят, что они люди и делают свободный выбор, тогда как на самом деле они полностью контролируются программами и командами людей. Самые сильные моменты в сериале могут быть, когда каждый из нескольких роботов узнает, что они роботы, что их страсти, гордость, желания и планы были запрограммированы. Это следует воспринимать как минимум двумя способами: (1) как изучение вопросов, касающихся искусственного интеллекта, и (2) как исследование состояния человека, особенно в отношении свободы воли.
Разница между свободой и свободой
Свобода против свободы
И свобода, и свобода — синонимы. Термин «свобода» — это форма «свободы». Поскольку оба этих термина могут означать одно и то же, и один может использоваться вместо другого. Иногда это может сбивать с толку, и людям трудно решить, какое слово использовать, как в случае со словами «свобода» и «свобода».
«Свобода» определяется как «право и сила верить, действовать и выражать себя по своему усмотрению, быть свободным от ограничений и иметь свободу выбора.Это условие обладания властью действовать и говорить без ограничений ».
Свобода — это состояние, при котором люди действуют согласно своей воле и управляют собой, принимая на себя ответственность за свои действия и поведение. Иметь свободу не обязательно означает идти против этики и моральных ценностей. Она подразделяется на: позитивную свободу, когда люди действуют по своей воле, не находясь под влиянием социальных ограничений и табу, и негативную свободу, когда люди действуют без влияния или принуждения со стороны других людей.
Слово «свобода» происходит от латинского слова «libertatem», что означает «свобода» или «состояние свободного человека». Он вошел в английский язык через старофранцузское слово «liberte», что означает «свобода».
«Свобода», с другой стороны, определяется как «состояние свободы пользоваться политическими, социальными и гражданскими свободами. Это способность решать свои действия и состояние свободы от ограничений или ограничений. Это синоним слов свободы, привилегии, освобождения и независимости.”
Это также называется «свободой воли». Способность каждого человека делать выбор, свободный от принуждения или ограничений. Даже если человек имеет свободную волю или свободу, он все равно обязан соблюдать религиозные и этические доктрины, потому что он несет ответственность за все свои действия.
